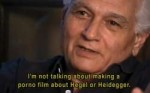 349 Кб, 600x372
349 Кб, 600x372мне похуй на равенство тел. почему если в природе нет понятия ценности и понятия его равенства его не должно быть в обществе. и если такое есть схерали это не действительность. ни догмы ни Бог тут не при чем. не нравится Платон возьмем Аристотеля. в моем обществе душа - это форма человеческой жизни. Те кто обладают душой ценностно равны. это моя действительность. отсюда будет следовать стремление к равенству возможностей.
догм нет, Бога нет, действительность есть, но по факту все как в христианстве.
общество - это атавизм? в природе нет общества. ты не сможешь из природы спроецировать общество которое будет "действительно" в твоем понимании
>в природе нет общества
Человек - это общественное/социальное животное. Человеков без социума нет (такие умирают младенцами, это зовётся annihilation anxiety, либо "маугли" (но даже "маугли" не безсоциален)).
Ну извини меня а как еще то сказать? Ты никак не аргументировал что отсутствие равенства в тел в природе означает недействительность равенства в обществе.
У бактерий нет стай. У животных появились стаи. Получается стаи для животных недействительны или как? Твоя оценка действительности на основе природы это полная чушь
Это не я "верю в идеи Ницше", а ты веришь в то, будто бы я верю в ["]идеи["] Ницше (иначе твой аргумент не имеет места).
>>4332
В твоём случае речь идёт не о "аргументации", а о обучении. Ты не владеешь элементарным, и лезешь сразу в сложное, поэтому на простейшем спотыкаешься и дальше мысль не развивается. Вот и весь ответ.
Что до твоей "аргументации", так вот: "действительность" для тебя - это и есть Бог ("действительность" это понятие гегельянской "теософии", т.е. речь о Абсолюте). Когда как в моей схеме "действительность" есть как, как минимум, chaos sive natura, и следовательно нет никакой "концептуальности", или "действительности", есть необходимости и те полагаются степенями и без гипостазирования.
(Дальше надо расписывать, объяснять, распинаться, а делать это более чем статьёй выше или отсылкой к active inference монографии мне просто накладно (там и так понарасписано в деталях, куда ещё? разве что "The Barren Epistemology of Jacques Derrida" полистай, хотя бы для разбора элементарного, или "Philosophical Investigations" чтобы понять проблему "указательности"). Зачем время тратить? Если тебе в этом не надо разбираться, то и нет смысла объяснять, - а если бы ты хотел, то ты бы совсем по другому спрашивал.
Если кратко: "нет" концептов в том смысле, что я не редуцирую познание к природе, их "нет" в том смысле что познание творит "природу" на ходу, т.е. каждый человек это такая текучая власть, которая всё вокруг себя меняет (как extended phenotype), если так полагать мир, то никакой устойчивой концептуации быть просто не может, и следовательно, "Бога" или "богов" тоже нет, а если они "есть", - они философствуют, а не знают (т.е. власть, созидающая, предшествует всему, в т.ч. Богу, "Богу", богам, "богам", идеям, концептам, материи и вообще всему "откровению" или знанию).)
А где такие гностики жили? Про какие из общины можно почитать?
>почему если в природе нет понятия ценности и понятия его равенства его не должно быть в обществе. и если такое есть схерали это не действительность
Ницшешиз такой ницшешиз
Erwägen wir endlich noch, welche Naivetät es überhaupt ist, zu sagen „so und so sollte der Mensch sein!“ Die Wirklichkeit zeigt uns einen entzückenden Reichthum der Typen, die Üppigkeit eines verschwenderischen Formenspiels und -Wechsels: und irgend ein armseliger Eckensteher von Moralist sagt dazu: „nein! der Mensch sollte anders sein“?… Er weiss es sogar, wie er sein sollte, dieser Schlucker und Mucker, er malt sich an die Wand und sagt dazu „ecce homo!“… Aber selbst wenn der Moralist sich bloss an den Einzelnen wendet und zu ihm sagt: „so und so solltest du sein!“ hört er nicht auf, sich lächerlich zu machen. Der Einzelne ist ein Stück fatum, von Vorne und von Hinten, ein Gesetz mehr, eine Nothwendigkeit mehr für Alles, was kommt und sein wird. Zu ihm sagen „ändere dich“ heisst verlangen, dass Alles sich ändert, sogar rückwärts noch… Und wirklich, es gab consequente Moralisten, sie wollten den Menschen anders, nämlich tugendhaft, sie wollten ihn nach ihrem Bilde, nämlich als Mucker: dazu verneinten sie die Welt! Keine kleine Tollheit! Keine bescheidne Art der Unbescheidenheit!… Die Moral, insofern sie verurtheilt, an sich, nicht aus Hinsichten, Rücksichten, Absichten des Lebens, ist ein spezifischer Irrthum, mit dem man kein Mitleiden haben soll, eine Degenerirten-Idiosynkrasie, die unsäglich viel Schaden gestiftet hat!… Wir Anderen, wir Immoralisten, haben umgekehrt unser Herz weit gemacht für alle Art Verstehn, Begreifen, Gutheissen. Wir verneinen nicht leicht, wir suchen unsre Ehre darin, Bejahende zu sein. Immer mehr ist uns das Auge für jene Ökonomie aufgegangen, welche alles Das noch braucht und auszunützen weiss, was der heilige Aberwitz des Priesters, der kranken Vernunft im Priester verwirft, für jene Ökonomie im Gesetz des Lebens, die selbst aus der widerlichen species des Muckers, des Priesters, des Tugendhaften ihren Vortheil zieht, — welchen Vortheil? — Aber wir selbst, wir Immoralisten sind hier die Antwort…
Как тебе, Рабу, можно объяснить мысль Господина? Никак. Это же противоречит логике! Следовательно...
Erwägen wir endlich noch, welche Naivetät es überhaupt ist, zu sagen „so und so sollte der Mensch sein!“ Die Wirklichkeit zeigt uns einen entzückenden Reichthum der Typen, die Üppigkeit eines verschwenderischen Formenspiels und -Wechsels: und irgend ein armseliger Eckensteher von Moralist sagt dazu: „nein! der Mensch sollte anders sein“?… Er weiss es sogar, wie er sein sollte, dieser Schlucker und Mucker, er malt sich an die Wand und sagt dazu „ecce homo!“… Aber selbst wenn der Moralist sich bloss an den Einzelnen wendet und zu ihm sagt: „so und so solltest du sein!“ hört er nicht auf, sich lächerlich zu machen. Der Einzelne ist ein Stück fatum, von Vorne und von Hinten, ein Gesetz mehr, eine Nothwendigkeit mehr für Alles, was kommt und sein wird. Zu ihm sagen „ändere dich“ heisst verlangen, dass Alles sich ändert, sogar rückwärts noch… Und wirklich, es gab consequente Moralisten, sie wollten den Menschen anders, nämlich tugendhaft, sie wollten ihn nach ihrem Bilde, nämlich als Mucker: dazu verneinten sie die Welt! Keine kleine Tollheit! Keine bescheidne Art der Unbescheidenheit!… Die Moral, insofern sie verurtheilt, an sich, nicht aus Hinsichten, Rücksichten, Absichten des Lebens, ist ein spezifischer Irrthum, mit dem man kein Mitleiden haben soll, eine Degenerirten-Idiosynkrasie, die unsäglich viel Schaden gestiftet hat!… Wir Anderen, wir Immoralisten, haben umgekehrt unser Herz weit gemacht für alle Art Verstehn, Begreifen, Gutheissen. Wir verneinen nicht leicht, wir suchen unsre Ehre darin, Bejahende zu sein. Immer mehr ist uns das Auge für jene Ökonomie aufgegangen, welche alles Das noch braucht und auszunützen weiss, was der heilige Aberwitz des Priesters, der kranken Vernunft im Priester verwirft, für jene Ökonomie im Gesetz des Lebens, die selbst aus der widerlichen species des Muckers, des Priesters, des Tugendhaften ihren Vortheil zieht, — welchen Vortheil? — Aber wir selbst, wir Immoralisten sind hier die Antwort…
Как тебе, Рабу, можно объяснить мысль Господина? Никак. Это же противоречит логике! Следовательно...
2. Все ницшеанцы - пидорасы и хуесосы.
3. Все, кто не согласен с этой точкой зрения - пидорасы и хуесосы
4. За любое обсуждение философии Ницше иначе, как в формате насмешек над ней и оплёвывания её автора, людям надо вырывать языки и выкалывать глаза.
>это позиция радикального, фундаментального антинигилизма
Вот это да!
>сложные вопросы (пример которых поднят был Гёте в заключительных главах Фауста, и Жиль Греле также разрабатывает эту тематику, как и его учитель Ларюэль, и их соперник Делёз с его концепцией "территориализации" (я только предполагаю, что к типически антилогически/диалектическому инструментарию этих искусств вполне правомерно добавить и инструмент "сингулярных практик" (вроде автоматического письма, вроде "Image Streaming" или TAE) и толкования сновидений по отношению к обычному тексту, понимая символизацию на уровне диарезиса Платона, т.е. что символьное толкование также ведёт к содержанию идей, указывает на идеи так же как это делает диалектика))
Очень жаль, что не углубился в объяснение сложных вопросов. Ну хоть слов набросал и имен, и греческое даже одно дропнул, спасибо, будем изучать, гуглить! Ларюель. Очень интересно. Еще и со стримингом!
>включая наисложнейшую тему "выведения породы"
Действительно тема наисложничайшая, без 100 грамм как говорится не разберешься. В следующий раз поведай нам и о ней, мудрец, пожалуйста!
Будем ждать.
>база
Обыкновенный жрец придумывает обоснования почему когда хорошо, то это хорошо, почему родителей надо уважать и как мир благолепно для размножения устроен
> В твоём случае речь идёт не о "аргументации", а о обучении
у меня благодать Духа Святого, мне не нужно обучение
> chaos sive natura, и следовательно нет никакой "концептуальности"
> нет никакой "концептуальности"
> chaos sive natura
> познание творит "природу" на ходу, т.е. каждый человек это такая текучая власть, которая всё вокруг себя меняет (как extended phenotype)
ебануться. братан моя метафизика хотя бы не противоречит научному методу и имеет исторические свидетельства
> Кто с чудовищами сражается, тому следует остерегаться, как бы самому не стать чудовищем.
давай заканчивай с этой хуйней и начинай борьбу за истинную свободу - свободу над грехом
>Отсюда вывод: Ницше это литература для будущих поколений. Если чтение Ницше/Заратустры не имеет места, то этим только его несвоевременность и доказывается, а не отсутствие содержания.
Дело ведь не только в содержании. А в его интерпретации, в точках отсчёта.
Пока ты не сформулируешь, какие они могут быть и какая (или какие) из них таки является должной (является ли?) - всё это останется увещеваниями.
>Зачем что-то разъёбывать, когда достаточно взять количеством. Два "двачую" и "соглы" для зрителей гораздо важнее, чем исследовательская работа предметоведа
В чём-то это верно. Сюда можно добавить игнор, переход на личности и прочие известные и не очень манипулятивные приёмы. Тем не менее, вся эта психологосоциальная позиция "вердикта" - лишь позиция банкротства их мировоззрения.
Речь была о понятии fundamental concept и проблеме grounding.
(Ну да ладно, кому это я рассказываю?.. Благодать так благодать, нечего тут обсуждать.)
>>4344
>обыкновенный
>изобретатель риторики как дисциплины
мда
>>4343
>мудрец
>Nur Narr!
>обидка
>>4346
Я твоё сообщение не смог проинтерпретировать (не шучу). Не нашёл точку отсчёта.
Спасибо за увещевание.
Когда способность к творчеству (lisez: созиданию) слабеет и изничтожается, человек всё больше превращается в раба (по определению понятия). И вот тогда ничего кроме рессентимента этому последнему человеку в жизни не останется. Period.
Если максимально кратко: "К генеалогии морали", второе рассмотрение, афоризмы 11, 12, 13 (и последние в рассмотрении - по теме "сверхчеловек").
Если чуть больше: "По ту сторону добра и зла", афоризмы 3, 4, 9, 13, 22, 36, 191, 192, 253 и 259.
>какие они могут быть и какая (или какие) из них таки является должной
Ну это не моё "должно", это Ницше уже сделал сам (например в последних письмах он конкретно пишет, что "По ту сторону добра и зла" это своего рода комментарий к "Заратустре", а что "Заратустра" > он сам, - это он пишет в втором рассмотрении "К генеалогии морали"). Обязанность читателя в этом, - не проворонить в тексте слова.
Я тебе про Фому, ты мне про Ерёму. Кошмар.
Речь о эпистемологической позиции (и она вовсе не элиминативистская). А апелляция к учёности, тем более гуманитарной, в современной ситуации STEM-продавливания и гонений даже на pure math это вообще нонсенс и апелляция к авторитету.
Другими словами, не при делах твои "аргументации".
Как говорится, не знаешь что делать с текстом и как понимать, - докопайся, что хуй не вырос нет регалий.
Земля стала маленькой, и на ней копошится последний человек, который все делает таким же ничтожным, как он сам. Его род неистребим, как земляные блохи: последний человек живет дольше всех.
"Счастье найдено нами", – говорят последние люди, бессмысленно моргая.
Они покинули страны, где было холодно, ибо нуждались в тепле. Они еще любят ближнего и жмутся друг к другу – потому только, что им нужно тепло.
Болезнь и недоверчивость считаются у них грехом, ибо ходят они осмотрительно. Только безумец может натыкаться на камни и на людей!
Время от времени – немножко яду: он навевает приятные сны. И побольше яду напоследок, чтобы было приятнее умереть.
Они еще трудятся, ибо труд для них – развлечение. Но они заботятся о том, чтобы развлечение это не утомляло их чрезмерно.
Не будет уже ни бедных, ни богатых: и то, и другое слишком хлопотно. И кто из них захочет повелевать? Кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно.
Нет пастыря, есть одно лишь стадо! У всех одинаковые желания, все равны; тот, кто мыслит иначе, добровольно идет в сумасшедший дом.
"Прежде весь мир был безумным", – говорят самые проницательные из них и бессмысленно моргают.
Все они умны, они все знают о том, что было: так что насмешкам их нет конца. Они еще ссорятся, но быстро мирятся – сильные ссоры нарушили бы их покой и пищеварение.
Есть у них и свои маленькие удовольствия: одно – днем, другое – ночью; но более всего они пекутся о здоровье.
"Мы открыли счастье", – говорят последние люди и бессмысленно моргают".
>Я твоё сообщение не смог проинтерпретировать (не шучу). Не нашёл точку отсчёта.
Точка отсчёта - это мировоззрение, складываемое из мировосприятия и миропонимания. Твоя точка отсчёта зиждется на уверенности, что Ницше приоткрыл нечто сакральное ("великая весть") и она крайне необходима человечеству. Но что же это? А хрен его знает. В понятие "сверхчеловека" могут вкладывать разные мысли (вот, например, автор учебника Б. полагает, что речь идёт о терроризме, унтерменшах и вообще). Кто-то видит в этом просто фигуру речи, причём порой даже бессмысленную или же полагает на свои лады сверхчеловека - некоего условного "венца" чего-то. Для меня же она по сути не значит ничего, и я в ней не нуждаюсь.
>Спасибо
Мне-то всё равно, а вот ты веришь, что человечество в лице неких поколений востребует. Для чего и зачем, остаётся лишь догадываться.
 722 Кб, 907x1360
722 Кб, 907x1360>нет регалий
Чел, ты в дурдомена дваче. Галлюцинируешь о том, что ты в научном журнале ведешь полемику. Не имея наверное и бакалаврского образования. В действительности просто спамишь цитатами, которые никто не читает, и усердствуешь в неймдроппинге в малосодержательных постах. Вместо того чтобы общаться на форуме, как на форумах люди общаются. В том числе знаешь ли учоные на западных форумах тоже этим занимаются, снимая халат при этом, нисходя до уровня простых смертных. И вы могли бы снизойти тоже с пьедестала, или слезть с коня если угодно на народной площади. См. "О возвышенных"
>Вместо того чтобы общаться на форуме, как на форумах люди общаются. В том числе знаешь ли учоные на западных форумах тоже этим занимаются, снимая халат при этом, нисходя до уровня простых смертных.
Тем самым они показывают неуважение к тому, чем занимаются или демонстрируют фальшивое радушие ("мы с тобой на одной волне")
Это не про Ницше, придурошень.
У тебя на нём фиксация. Посмотрим, что об этом казусе скажет ницшевед.
Всё спрашиваемое выше (в двух постах) либо было отвечено, например, в >>4351 (и если вы из этих вещей не можете вывести релевантность ницшевских трудов, то это просто значит, что вы ничего не понимаете хотя бы в истории философии, тогда начните с "Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr" (эта книга, между прочим, нужна только для того, чтобы ницшевскую аргументацию, которую не надо растягивать на целую книгу (которая записана в нескольких афоризмах), растянуть на целую книгу, - и не более) и, как обзорную по истфилу на основании философии, а не типичного истфила, - https://www.stegmaier-orientierung.de/files/dokumente/(2024)%20Courageous%20Beginnings%20interior-komprimiert.pdf - затем переходите к "A Biography of Ordinary Man: On Authorities and Minorities", чтобы понять философскую позицию Ницше как "одиночного мореплавателя" (я имею в виду пятую из семи печатей "Заратустры", а именно "Auf hoher See: Ein. Sentenzen-Buch") и хоть как-то к ней приблизиться (можно добить сверху ToSS Греле, чтобы более глубоко прояснить тематику "моря")), либо это значит и требует такого ("учёного", между прочим) развёртывания мысли, что в этих полотнах текста утонут все без исключения (и никто не будет это читать либо пытаться понять).
(К чему здесь апелляции к бакалавриату, я не понял чуть более чем никак. Вот эти невнятные требования, - это и есть типичное sekommca. Как бакалавриат может что-то доказывать? Уровень бакалаврских работ и настоящее философское исследование которое предполагает выход за рамки академических ("ликеевских", платоновских, аристотелевских и прочих) работ, - это совсем разные вещи. Настолько, что предполагать "вы не бакалавр!" как требование это такая глупость (но не кретинизм), что кроме сцены с Бакалавром (из Фауста) мне в голову ничего не приходит (как иллюстрация этой глупости). (Как будто "бакалавр" может что-то обязательно понять и якобы звание "бакалавр" доказывает, что Ницше такой "бакалавр" обязательно поймёт так, как это требуется. Ну это просто абсурд, и доказательство, что аргументов-то больше никаких не осталось, у требующего, как и понимания, о чём идёт речь.))
Если кратко: требование "дай чтоб понятно!" это и было то, что необходимым образом привело к появлению такой "сумасшедшей" книги как "Анти-Христ" (от Ницше именно это и требовали, именно поэтому он вот такое "сумасшедшее" и написал, видимо, в состоянии некого ощущения безвыходности от окружающего его кретинизма (например, кретинизма антисемитов)). Когда как всё оригинальное и "с высоких гор" - это вовсе не "Анти-Христ" и даже не "По ту сторону Добра и Зла", а Заратустра. И если Заратустра не понятен, - значит не "по сеньке шапка". Либо разбирайтесь (благо интернет позволяет), либо оставьте до лучших врёмен и не вникайте.
(А целей я своих уже достиг, так что больше эксплицировать мне ничего не требуется. Кому было интересно - спасибо за внимание.)
Non legor, non legar.
Всё спрашиваемое выше (в двух постах) либо было отвечено, например, в >>4351 (и если вы из этих вещей не можете вывести релевантность ницшевских трудов, то это просто значит, что вы ничего не понимаете хотя бы в истории философии, тогда начните с "Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr" (эта книга, между прочим, нужна только для того, чтобы ницшевскую аргументацию, которую не надо растягивать на целую книгу (которая записана в нескольких афоризмах), растянуть на целую книгу, - и не более) и, как обзорную по истфилу на основании философии, а не типичного истфила, - https://www.stegmaier-orientierung.de/files/dokumente/(2024)%20Courageous%20Beginnings%20interior-komprimiert.pdf - затем переходите к "A Biography of Ordinary Man: On Authorities and Minorities", чтобы понять философскую позицию Ницше как "одиночного мореплавателя" (я имею в виду пятую из семи печатей "Заратустры", а именно "Auf hoher See: Ein. Sentenzen-Buch") и хоть как-то к ней приблизиться (можно добить сверху ToSS Греле, чтобы более глубоко прояснить тематику "моря")), либо это значит и требует такого ("учёного", между прочим) развёртывания мысли, что в этих полотнах текста утонут все без исключения (и никто не будет это читать либо пытаться понять).
(К чему здесь апелляции к бакалавриату, я не понял чуть более чем никак. Вот эти невнятные требования, - это и есть типичное sekommca. Как бакалавриат может что-то доказывать? Уровень бакалаврских работ и настоящее философское исследование которое предполагает выход за рамки академических ("ликеевских", платоновских, аристотелевских и прочих) работ, - это совсем разные вещи. Настолько, что предполагать "вы не бакалавр!" как требование это такая глупость (но не кретинизм), что кроме сцены с Бакалавром (из Фауста) мне в голову ничего не приходит (как иллюстрация этой глупости). (Как будто "бакалавр" может что-то обязательно понять и якобы звание "бакалавр" доказывает, что Ницше такой "бакалавр" обязательно поймёт так, как это требуется. Ну это просто абсурд, и доказательство, что аргументов-то больше никаких не осталось, у требующего, как и понимания, о чём идёт речь.))
Если кратко: требование "дай чтоб понятно!" это и было то, что необходимым образом привело к появлению такой "сумасшедшей" книги как "Анти-Христ" (от Ницше именно это и требовали, именно поэтому он вот такое "сумасшедшее" и написал, видимо, в состоянии некого ощущения безвыходности от окружающего его кретинизма (например, кретинизма антисемитов)). Когда как всё оригинальное и "с высоких гор" - это вовсе не "Анти-Христ" и даже не "По ту сторону Добра и Зла", а Заратустра. И если Заратустра не понятен, - значит не "по сеньке шапка". Либо разбирайтесь (благо интернет позволяет), либо оставьте до лучших врёмен и не вникайте.
(А целей я своих уже достиг, так что больше эксплицировать мне ничего не требуется. Кому было интересно - спасибо за внимание.)
Non legor, non legar.
Прекращай пить мочу
Ницше преодолен современной философией. Если тебе это не понятно, то "не по сеньке шапка".
Но ему комфортно в ситуации, когда его не понимают. Это поднимает самооценку.
>Тем самым они показывают неуважение к тому, чем занимаются
Нет, просто в их коммуникации есть какая-то цель, мотивация. Может кому-то помочь, может освежить собственные знания, а может и узнать что-то для себя от собеседника, кем бы он ни был (в крайнем случае узнать что-то в беседе от самого себя...)
Почитай письма Ницше, посмотри как он общается и много ли неймдроппит там. Да и в произведениях. Это же просто mauvais ton для него
>Я пишу для экспликации собственных мыслей, для своего "Само", для "себя", для "аутопоэзиса" (Луман), для развития мысли и движения дальше. Если собеседников для этого нет - то это не проблема.
А для этого Обсидиан например есть. Тебе что, скучно с собой? Странно тогда удивляться про других
>К чему здесь апелляции к бакалавриату, я не понял чуть более чем никак. Вот эти невнятные требования, - это и есть типичное sekommca. Как бакалавриат может что-то доказывать?
Имелось в виду, что ссылки на академическую литературу здесь не нужны примерно никому, так же как цитаты на немецком
>чтобы понять философскую позицию Ницше, читайте Ларюеля
Хмм, а еще ведь у кого-то есть талант вместо называния цифр из книг самому пересказывать (а хочешь, можно выдумывать) содержащиеся там тезисы, коротко и хорошо вписывая в контекст, kairos... Разве дзен-товарищи не учили этому
>Как будто "бакалавр" может что-то обязательно понять и якобы звание "бакалавр" доказывает
Оно показывает хотя бы то, что книги, которые ты кидаешь, вероятно (ну не всегда конечно, особенно на русском языке. особенно на дваче) не рандомно подобраны. Что тебе приходилось проходить через экспертный сторонний взгляд, компетентную критику, и какая-то академическая планка у тебя есть, и она адекватная
Все, надоели апелляции к личности, которые тоже mauvais ton (правда может не для Ницше?), возможно как раз такое чрезмерное внимание к личности от других и порождает такое вредное внимание к своей личности изнутри
 722 Кб, 907x1360
722 Кб, 907x1360>ницшевед
Ежи Сармат? Он самый толковый ницшевед на постсоветском пространстве. Даже книгу написал.
Срамп копросу.
>Почему
Потому что остановились на анальной стадии психосексуального развития
Сюда хорошо подшивается не только невроз (слишком очевидно), но и инцельство, потому что разделение на чистое и грязное в человеческой головёшке соседствует с сексом. И получается вот такой вот лютый замес, где "потому что говно": я говно, вы говно, вещи и размышления говно, женщины говно, говно, говно. А если что-то пока что чистое, его нужно обмазать говном: готово - теперь это тоже говно и "ни надо"
А вот почему эти стадии вообще существуют - отдельный большой вопрос
>Как думаете, они бы друг друга поняли?
Зависит от личных особенностей, дальности друг от друга философов, а еще может быть от толкования "философии" и "философствования" с удерживаемой позиции (ну самое банальное академики бы друг друга понимали, и хейтили бы неакадемиков. А неакадемики бы может друг с другом упоенно беседовали, совершенно не нуждаясь в реальном понимании друг друга...)
Это si méprisable: повторять (да ещё переводные!) слова за мертвецами вместо собственного живого вилософствования!
По мнению Ежи Сармата и его друзей?
Ладно, расскажи хотя бы с кем ты сравниваешь и по каким критериям
У него есть нужное образование, есть научные работы. Он хорошо и без занудства доносит мысли.
Даже не знаю, что по форме что по содержанию пархнуло чем-то таким, вроде бабушка хвалит внучка: не знает, чем он занимается, но внучок же любимый. Прям Рорти с его "хочу быть как он". Где содержание-то? Зачем тебе было говорить что "он самый толковый на русском", если тебе на самом деле всё равно и он тебе понравился на личном уровне?
Не, я всего лишь отреагировал на самую интересную часть твоего поста, но так вышло что она оказалась "прост" для красоты. Отдельно от этого он мне не интересен, а вот "самый на русском" / "лучший в мире" и т.д. - это прикольно
Точно так же отреагировал бы на любое "лучший на русском" или "лучший в мире", потому что в интересной мне теме дошёл до этапа, когда могу сравнивать исследователей по силе: одному удаётся выделить главное и удержать философский жар, а у другого всё валится из рук и от исследуемого мыслителя остаётся только фамилия. Или чувство растерянности, когда твой любимчик оказался посредственным на фоне другого, более серьёзного и основательного исследователя
Если когда-нибудь дойдёшь до сравнения исследователей Ницше, рассказывай. Ну не так только что "мой краш Сармат сказал, что другие дураки". И уж тем более если когда-нибудь сможешь сказать, что у тебя появился некий твой Ницше
Здесь возникают первые вопросы. А что такое Традиция? А что такое Священное? И почему с такой уверенностью утверждается какой-то единый традиционализм, я дочь каирского офицера и говорю вам, что всё не так однозначно. На эти вопросы не ответить даже в обширной статье. Но кое-что наметить можно.
Под традиционализмом понимается мысль, выработанная Рене Геноном, Фритьофом Шуоном, Юлиусом Эволой, Мартином Лингсом, Мишелем Вальсаном, Александром Дугиным и другими. Сюда не относят Жозефа Де Местра, Константина Леонтьева, Фридриха Ницше или Ортегу-и-Гассета, т.к. речь идёт об интегральном традиционализме. Где-то с Новым временем (хотя существует иные классификации) мир вошёл в Тёмный Век, когда все иерархические структуры, на которых держалось правильное существование, содрогнулись и постепенно погребли под собой людей. Они в этой каше перемешались, стали неотличимы друг от друга и, в общем-то, перестали быть людьми, потому что таковыми их делала не внутренняя экзистенция, а место в иерархии, которая оказалась уничтожена. Стать человеком можно, прикоснувшись к Традиции (т.е. Священному – чести, иерархии, духу), понимаемой, как противоположность традиции (т.е. Профанному – истории, политике, быту). Традиция означает распространение вечности, а традиция с маленькой буквы наделена человеческим содержанием – посидеть на дорожку, иконам поклониться, отдать честь национальному флагу, рубашку с петухами носить. С каждым днём Священного становится всё меньше, а исторического, людского, социального всё больше. Цель традиционализма в том, чтобы нащупать это Священное, сохранить его, пройдя инициацию и передать дальше. Или выступить вместе со Священным против современного мира. От мыслителя к мыслителю ситуация разнится, но в общих чертах традиционализм выглядит как-то так.
Против традиционализма, если использовать этот термин, который не может адекватно описать всё многообразие течений и группировок, осуждающих современный мир и призывающих ориентироваться на вечность, можно сформулировать несколько положений.
1. Традиционализм – это модернистское изобретение начала ХХ века.
2. Традиционализм – это предтеча «New-Age», а, чаще всего, и есть «New-Аge».
3. Традиционализм – это антиисторично. Отрицая историю, он сближается с постмодернизмом.
4. Традиционализм – это ещё одна ветвь просветительского индивидуализма в духе Руссо.
Об этом и поговорим.
Почему традиционализм, так яростно осуждающий современность, одновременно является её порождением? Интегральный традиционализм родился на исходе XIX-го и в первой половине ХХ веков, в самый разгар Современности. Его зачинателем является француз Рене Генон. В свою очередь на него повлияли французы Жерар Анкосс и полумифический Альбер де Пувурвиль, о которых речь пойдёт чуть позже. Другой корень традиционализма уходит к неоплатоническим мыслителям Возрождения (Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола), что тоже, в общем-то, Современность. Ещё корни традиционализма можно найти в немецком романтизме, полностью модернистском течении, который рассуждал о духе, о вызове времени и толпе, критиковал современность и идеализировал прошлое. Так что интеллектуальные корни традиционализма – это XIX-XX и эпоха Возрождения.
Мог ли традиционализм возникнуть в традиционном обществе? Нет, не мог. В мире, где Священное находится на положенном ему месте, традиционализм не нужен. Он, как факт, мог возникнуть только в Современности, причём в крайней форме её проявления – ХХ веке. Человек, живущий в Традиции, просто не знал слова, которым бы мог её обозначить (сам Генон старался не использовать понятие «традиционализм»). Для того, чтобы назвать Традицию Традицией, нужна перспектива, нужен Другой, чтобы посмотреть на Традицию со стороны, а раз на неё можно посмотреть со стороны, значит, Традиция более не пронизывает всё основание мира, значит мир движется к Тёмному веку, значит на подходе Современность. Традиционализм – это взгляд на Традицию людей Современности.
Пикантно и то, что традиционализм возник в самом сердце Современности, на Западе. Причём возник в тот момент, когда Запад был колоссально силён и подчинил себе практически весь мир. Логично было бы предложить, что в такой ситуации традиционализм должен был появиться в более «традиционных» обществах Востока. Это был бы мобилизационный ответ на экспансию. Но ничего такого не произошло. Традиционализм это сугубо европейское явление, а если он и касался таких людей, как Ананда Кумарасвами или Сейид Хосейн Наср, то это были люди Запада. Они с детства жили в Европе и США, выучились там и там же преподавали. Вдвойне пикантно, что более «отсталые» общества избрали своим щитом отнюдь не традиционализм, а… социализм. Именно социализм стал тем инструментом, которым более традиционный Восток попытался защититься от более современного Запада. Чем дальше на Восток, тем это нагляднее видно. К примеру, коммунисты Вьетнама после победы дважды предлагали императору Бао Даю важный пост в правительстве. Местные социалистические движения были плотно замешаны на том, что можно назвать традицией с маленькой буквы.
Здесь возникают первые вопросы. А что такое Традиция? А что такое Священное? И почему с такой уверенностью утверждается какой-то единый традиционализм, я дочь каирского офицера и говорю вам, что всё не так однозначно. На эти вопросы не ответить даже в обширной статье. Но кое-что наметить можно.
Под традиционализмом понимается мысль, выработанная Рене Геноном, Фритьофом Шуоном, Юлиусом Эволой, Мартином Лингсом, Мишелем Вальсаном, Александром Дугиным и другими. Сюда не относят Жозефа Де Местра, Константина Леонтьева, Фридриха Ницше или Ортегу-и-Гассета, т.к. речь идёт об интегральном традиционализме. Где-то с Новым временем (хотя существует иные классификации) мир вошёл в Тёмный Век, когда все иерархические структуры, на которых держалось правильное существование, содрогнулись и постепенно погребли под собой людей. Они в этой каше перемешались, стали неотличимы друг от друга и, в общем-то, перестали быть людьми, потому что таковыми их делала не внутренняя экзистенция, а место в иерархии, которая оказалась уничтожена. Стать человеком можно, прикоснувшись к Традиции (т.е. Священному – чести, иерархии, духу), понимаемой, как противоположность традиции (т.е. Профанному – истории, политике, быту). Традиция означает распространение вечности, а традиция с маленькой буквы наделена человеческим содержанием – посидеть на дорожку, иконам поклониться, отдать честь национальному флагу, рубашку с петухами носить. С каждым днём Священного становится всё меньше, а исторического, людского, социального всё больше. Цель традиционализма в том, чтобы нащупать это Священное, сохранить его, пройдя инициацию и передать дальше. Или выступить вместе со Священным против современного мира. От мыслителя к мыслителю ситуация разнится, но в общих чертах традиционализм выглядит как-то так.
Против традиционализма, если использовать этот термин, который не может адекватно описать всё многообразие течений и группировок, осуждающих современный мир и призывающих ориентироваться на вечность, можно сформулировать несколько положений.
1. Традиционализм – это модернистское изобретение начала ХХ века.
2. Традиционализм – это предтеча «New-Age», а, чаще всего, и есть «New-Аge».
3. Традиционализм – это антиисторично. Отрицая историю, он сближается с постмодернизмом.
4. Традиционализм – это ещё одна ветвь просветительского индивидуализма в духе Руссо.
Об этом и поговорим.
Почему традиционализм, так яростно осуждающий современность, одновременно является её порождением? Интегральный традиционализм родился на исходе XIX-го и в первой половине ХХ веков, в самый разгар Современности. Его зачинателем является француз Рене Генон. В свою очередь на него повлияли французы Жерар Анкосс и полумифический Альбер де Пувурвиль, о которых речь пойдёт чуть позже. Другой корень традиционализма уходит к неоплатоническим мыслителям Возрождения (Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола), что тоже, в общем-то, Современность. Ещё корни традиционализма можно найти в немецком романтизме, полностью модернистском течении, который рассуждал о духе, о вызове времени и толпе, критиковал современность и идеализировал прошлое. Так что интеллектуальные корни традиционализма – это XIX-XX и эпоха Возрождения.
Мог ли традиционализм возникнуть в традиционном обществе? Нет, не мог. В мире, где Священное находится на положенном ему месте, традиционализм не нужен. Он, как факт, мог возникнуть только в Современности, причём в крайней форме её проявления – ХХ веке. Человек, живущий в Традиции, просто не знал слова, которым бы мог её обозначить (сам Генон старался не использовать понятие «традиционализм»). Для того, чтобы назвать Традицию Традицией, нужна перспектива, нужен Другой, чтобы посмотреть на Традицию со стороны, а раз на неё можно посмотреть со стороны, значит, Традиция более не пронизывает всё основание мира, значит мир движется к Тёмному веку, значит на подходе Современность. Традиционализм – это взгляд на Традицию людей Современности.
Пикантно и то, что традиционализм возник в самом сердце Современности, на Западе. Причём возник в тот момент, когда Запад был колоссально силён и подчинил себе практически весь мир. Логично было бы предложить, что в такой ситуации традиционализм должен был появиться в более «традиционных» обществах Востока. Это был бы мобилизационный ответ на экспансию. Но ничего такого не произошло. Традиционализм это сугубо европейское явление, а если он и касался таких людей, как Ананда Кумарасвами или Сейид Хосейн Наср, то это были люди Запада. Они с детства жили в Европе и США, выучились там и там же преподавали. Вдвойне пикантно, что более «отсталые» общества избрали своим щитом отнюдь не традиционализм, а… социализм. Именно социализм стал тем инструментом, которым более традиционный Восток попытался защититься от более современного Запада. Чем дальше на Восток, тем это нагляднее видно. К примеру, коммунисты Вьетнама после победы дважды предлагали императору Бао Даю важный пост в правительстве. Местные социалистические движения были плотно замешаны на том, что можно назвать традицией с маленькой буквы.
Все важные для традиционализма мыслители начинали свой путь с увлечения оккультизмом, магией, эзотерикой, спиритуализмом, язычеством и другими искусственными конструкторами, созданными в салонах ХIХ-ХХ веков. Трудно, как внешне, так и содержательно отличить Ошо от Шуона, а Генона от Рериха. Ведь нужно понимать, что ислам – это не традиционализм, христианство – это не традиционализм, церковь – это не традиционализм, суфизм – это не традиционализм, рыцарские ордена – это не традиционализм. Традиционализм – это всегда эзотерика, это попытка взять из всех «традиций» сокрытые элементы, скрестить их в такое же искусственное, как и Современность, детище, тем самым как-то выжив средь этой смертной любви.
Так, Рене Генон где-то до 1910 года (до 24 лет) плотно увлекался масонами, гностицизмом и мартинизмом. К ХХ веку мартинизм «воссоздал» учитель Генона Жерар Анкосс, считавший себя магом. Это был невероятно популярный каббалист, масон, оккультист эпохи Fin de siècle. Генон в то время был «епископом» т.н. Вселенской гностической церкви, где состоял авантюрист и эзотерик Альбер де Пувервиль. Он не только пристрастил Генона к опию, но подтолкнул отца традиционализма к его важнейшим мыслям о религии. А пока в ходе «посвящения» Генон на спиритическом сеансе говорит с духом последнего Магистра ордена тамплиеров Жаком де Молем. Дух Жака де Моле поведал Генону, что тот должен возродить дух рыцарства, что, в каком-то смысле, и произошло. А вот Фритьоф Шуон создал из европейцев первый суфийский орден «Марьямийа». Позже Шуон прославился тем, что облачался в индейские одеяния и, будучи обнажённым, фотографироваться с девушками в бикини. Под конец жизни, переселившись в США, Шуон стал кем-то вроде суфийского шейха-индейца. Ранний Эвола посещал кружки спиритуалистов, теософов и антропософов. В 1926 году он создаёт эзотерический проект «Ур», занимающийся пропагандой магических практик. Тот же Марк Сэджвик, написавший «Наперекор современному миру», состоит секретарём «European Society for the Study of Western Esotericism». Мартин Лингс являлся европейским суфием, который написал эзотерико-филологический трактат о Шекспире «Секреты Шекспира». По мысли Лингса, искусство пробирает человека только тогда, когда в нём есть отсылка к потаённому миру, который не каждый способен прочесть. Ананда Кумарасвами сплёл воедино индуизм с неоплатонизмом и был чистейшим эзотериком. Александр Дугин начинал в мистическом кружке Евгения Головина. Весь традиционализм вышел из эзотеризма, магизма, оккультизма и, не смотря на его последующую критику, так и не смог избавиться от «New-Age» молодости.
Ведь о чём центральная идея Генона? Она о наличии некой Примордиальной Традиции. Это комплекс нечеловеческих знаний, абсолютная трансцендентная истина, которая передавалась от «истоков человечества» с помощью ограниченного круга посвящённых лиц. Позже она стала существовать в отдельных духовных практиках, которыми можно и нужно заниматься, чтобы приобщиться к Традиции. Сам Генон выбрал для этого ислам, но не забывал указывать, что это был его личный выбор. К Традиции, как к Риму, ведут разные дороги.
Что это, как не «New-Age»? Тут ведь тоже главенствует идея, что «всё едино», а прийти к Единству можно разными путями. К тому же, «New-Age» говорит, что Всё откроется только знающим. Такая же гностическая нотка есть в традиционализме. Оккультные практики? Все традиционалисты начинали с них, а люди вроде Шуона от всяких псевдо-зикров и не отказывались. Синкретизм религий и духовности? Пожалуйста. Цикличность мира вместо линейки истории? Разумеется. Изменённые состояние сознания? Это и наркотические опыты традиционалистов, и некритические восприятие суфийских практик. Реинкарнация? Кумарасвами в глазах традиционалистов реабилитировал буддизм (они считали его восстанием кшатриев против власти брахманов). В «New-Age» нет чётких правил поведения, так ведь и традиционалисты сплошь друг от друга отличаются. Что является основой учения «Новой Эпохи»? Теософия, с которой были связаны все первые традиционалисты. Чем занимался тот же Эвола? Он изучал йогу, алхимию, буддизм, авангард, герметизм… А что изучают новоэпохальцы? Вопрос риторический.
Безусловно, различия есть и они немаленькие, но сколько сходства!
То есть нужно ставить вопрос так: где кончается секта и личности вроде Бога Кузи и начинается традиционализм? Чем Павел Глоба отличается от Фритьофа Шуона? Почему на спиритическом сеансе Генону может явиться дух Магистра ордена тамплиеров, а инициатический центр в цыганском таборе на вокзале таким правом не обладает? Где границы? Нет их. Разделение и не провести, потому что традиционализм резко выступает против истории и историзма, что забавным образом сближает его с постмодернизмом.
Ведь что такое традиция? Латинское слово «traditio» означает передачу. Сохранять традицию – это сохранять передачу чего-либо. Следовательно, мы можем говорить о том, что передаёт Традиция и как она это передаёт. В первом случае упор на историю не требуется – можно ограничиться феноменологическими (то есть, «что это такое») вопросами, но отвечая на вопрос «как это передаётся» мы не может обойтись без фактуры: преданий, фольклора, религиозных практик, быта, цивилизаций прошлого и т.д. Ведь Священное, о котором говорят традиционалисты, существует не в воздухе, а проявляется через вполне определённые социальные институты, иерархию, Платонополис, жрецов, воинов… И вот тут-то у традиционалистской школы начинаются не просто проблемы, а настоящий провал. Потому что если разбирать то, что традиционалисты напридумывали о прошлом, об ариях, полой Земле и древних цивилизациях, то можно понять, что речь идёт о суфиях вроде Фоменко и Носовского. Но на этот разбор понадобился бы отдельный текст.
Все важные для традиционализма мыслители начинали свой путь с увлечения оккультизмом, магией, эзотерикой, спиритуализмом, язычеством и другими искусственными конструкторами, созданными в салонах ХIХ-ХХ веков. Трудно, как внешне, так и содержательно отличить Ошо от Шуона, а Генона от Рериха. Ведь нужно понимать, что ислам – это не традиционализм, христианство – это не традиционализм, церковь – это не традиционализм, суфизм – это не традиционализм, рыцарские ордена – это не традиционализм. Традиционализм – это всегда эзотерика, это попытка взять из всех «традиций» сокрытые элементы, скрестить их в такое же искусственное, как и Современность, детище, тем самым как-то выжив средь этой смертной любви.
Так, Рене Генон где-то до 1910 года (до 24 лет) плотно увлекался масонами, гностицизмом и мартинизмом. К ХХ веку мартинизм «воссоздал» учитель Генона Жерар Анкосс, считавший себя магом. Это был невероятно популярный каббалист, масон, оккультист эпохи Fin de siècle. Генон в то время был «епископом» т.н. Вселенской гностической церкви, где состоял авантюрист и эзотерик Альбер де Пувервиль. Он не только пристрастил Генона к опию, но подтолкнул отца традиционализма к его важнейшим мыслям о религии. А пока в ходе «посвящения» Генон на спиритическом сеансе говорит с духом последнего Магистра ордена тамплиеров Жаком де Молем. Дух Жака де Моле поведал Генону, что тот должен возродить дух рыцарства, что, в каком-то смысле, и произошло. А вот Фритьоф Шуон создал из европейцев первый суфийский орден «Марьямийа». Позже Шуон прославился тем, что облачался в индейские одеяния и, будучи обнажённым, фотографироваться с девушками в бикини. Под конец жизни, переселившись в США, Шуон стал кем-то вроде суфийского шейха-индейца. Ранний Эвола посещал кружки спиритуалистов, теософов и антропософов. В 1926 году он создаёт эзотерический проект «Ур», занимающийся пропагандой магических практик. Тот же Марк Сэджвик, написавший «Наперекор современному миру», состоит секретарём «European Society for the Study of Western Esotericism». Мартин Лингс являлся европейским суфием, который написал эзотерико-филологический трактат о Шекспире «Секреты Шекспира». По мысли Лингса, искусство пробирает человека только тогда, когда в нём есть отсылка к потаённому миру, который не каждый способен прочесть. Ананда Кумарасвами сплёл воедино индуизм с неоплатонизмом и был чистейшим эзотериком. Александр Дугин начинал в мистическом кружке Евгения Головина. Весь традиционализм вышел из эзотеризма, магизма, оккультизма и, не смотря на его последующую критику, так и не смог избавиться от «New-Age» молодости.
Ведь о чём центральная идея Генона? Она о наличии некой Примордиальной Традиции. Это комплекс нечеловеческих знаний, абсолютная трансцендентная истина, которая передавалась от «истоков человечества» с помощью ограниченного круга посвящённых лиц. Позже она стала существовать в отдельных духовных практиках, которыми можно и нужно заниматься, чтобы приобщиться к Традиции. Сам Генон выбрал для этого ислам, но не забывал указывать, что это был его личный выбор. К Традиции, как к Риму, ведут разные дороги.
Что это, как не «New-Age»? Тут ведь тоже главенствует идея, что «всё едино», а прийти к Единству можно разными путями. К тому же, «New-Age» говорит, что Всё откроется только знающим. Такая же гностическая нотка есть в традиционализме. Оккультные практики? Все традиционалисты начинали с них, а люди вроде Шуона от всяких псевдо-зикров и не отказывались. Синкретизм религий и духовности? Пожалуйста. Цикличность мира вместо линейки истории? Разумеется. Изменённые состояние сознания? Это и наркотические опыты традиционалистов, и некритические восприятие суфийских практик. Реинкарнация? Кумарасвами в глазах традиционалистов реабилитировал буддизм (они считали его восстанием кшатриев против власти брахманов). В «New-Age» нет чётких правил поведения, так ведь и традиционалисты сплошь друг от друга отличаются. Что является основой учения «Новой Эпохи»? Теософия, с которой были связаны все первые традиционалисты. Чем занимался тот же Эвола? Он изучал йогу, алхимию, буддизм, авангард, герметизм… А что изучают новоэпохальцы? Вопрос риторический.
Безусловно, различия есть и они немаленькие, но сколько сходства!
То есть нужно ставить вопрос так: где кончается секта и личности вроде Бога Кузи и начинается традиционализм? Чем Павел Глоба отличается от Фритьофа Шуона? Почему на спиритическом сеансе Генону может явиться дух Магистра ордена тамплиеров, а инициатический центр в цыганском таборе на вокзале таким правом не обладает? Где границы? Нет их. Разделение и не провести, потому что традиционализм резко выступает против истории и историзма, что забавным образом сближает его с постмодернизмом.
Ведь что такое традиция? Латинское слово «traditio» означает передачу. Сохранять традицию – это сохранять передачу чего-либо. Следовательно, мы можем говорить о том, что передаёт Традиция и как она это передаёт. В первом случае упор на историю не требуется – можно ограничиться феноменологическими (то есть, «что это такое») вопросами, но отвечая на вопрос «как это передаётся» мы не может обойтись без фактуры: преданий, фольклора, религиозных практик, быта, цивилизаций прошлого и т.д. Ведь Священное, о котором говорят традиционалисты, существует не в воздухе, а проявляется через вполне определённые социальные институты, иерархию, Платонополис, жрецов, воинов… И вот тут-то у традиционалистской школы начинаются не просто проблемы, а настоящий провал. Потому что если разбирать то, что традиционалисты напридумывали о прошлом, об ариях, полой Земле и древних цивилизациях, то можно понять, что речь идёт о суфиях вроде Фоменко и Носовского. Но на этот разбор понадобился бы отдельный текст.
Что же предполагает такая посылка? В том и проблема, что она ничего не предполагает. Традиционализм рождал и рождает всего две вещи – либо просвещенческий традиционализм в «духе» Руссо, либо романтический эскапизм.
Ведь кем были все (!) традиционалисты? Они были интеллектуалами-одиночками, которые писали книги, вращались в закрытых кружках, да занимались просвещением. Даже Эвола, имевший связи с фашизмом и нацизмом, так и остался для этих движений белой вороной. Отрицание же историзма приводит традиционалистов к эскапизму. Ведь если мир должен прийти к упадку и снова возродиться, то зачем его спасать? То, что произошло – это естественно. Так и должно быть. Это предопределено самой логикой Традиции. Поэтому не нужно суетиться и мельтешить. Нужно занять позицию наблюдателя, хранить в себе ростки Традиции и пытаться жить, как полагается воину или брахману в эпохе Упадка. То есть это опять же существование в атомарном обществе и индивидуализм Возрождения. Невозможно быть рыцарем без рыцарского ордена. Невозможно быть брахманом без соответствующей институции. А этого традиционалисты создать не могут. Да этого никто создать не может.
Всё, что традиционалисты смогли предложить – это концепция осёдланного тигра. Как её можно популярно изложить? Конечно же, с помощью народной русской частушки: «В лесу раздавался топор дровосека. Гонял дровосек топором гомосека. Устал, обессилел, упал дровосек... c улыбкой залез на него гомосек...». В данном случае абстрактный нонкомформист-гомосек – это правый анарх, а дровосек – тигр, то есть современный мир, которого рано или поздно оседлает хитрый гомосек. Концепция сама по себе неплоха, но она рождает всё тот же эскапизм, побег в выдуманные миры и в Традицию, которая не вылезает из компьютерного кресла. Кто-нибудь знает сегодня интересных правых анархистов? Нет, не знает. Потому что их нет. А почему их нет? Потому что они по ту сторону экрана хранят Традицию в себе.
Единственный традиционалист, который чего-то добился на практике – это Александр Дугин. Если брать под корень, то Дугин это второй (после Генона) традиционалист. Чувствуется, как сейчас усмехнулся читатель, но только Дугину удалось выйти из рамок банального просвещения, создать интеллектуальное движение и даже иметь кое-какое (небольшое) влияние на политическую власть в России. Но вот кроме Дугина сегодня нет никого. Есть либо скучнейшие пасынки сына Гелия – Сперанская, Коровин, за которых просто стыдно, либо молодая поросль, которая Дугина боготворит или ненавидит, реализуя тем самым Эдипов комплекс. По итогу остаётся пустота, где в бороду смеётся хитрый Дугин. Кстати, один из аргументов против традиционализма – он не умеет смеяться. Традиционализм патологически серьёзен. Шутит только молодёжь, но чаще в духе портвейна «777». Юмор в традиционализм принёс Дугин, который мог остроумно разложить песню Кати Лель.
И это не только лишь шутка. Ведь традиционализм – это порождение Современности. Он вышел из того же корня, из которого вышел «New-Age». И рождает традиционализм такой же тип людей, какой рождает «New-Age» – эзотерических юношей и девушек, начитавшихся Блаватской и Трисмегиста, которые вместо геноновского опия употребляют циклодол. Традиционализм обречён воспроизводить отражение постмодерна, не в силах его ни преодолеть, ни даже высмеять. Сегодня можно оседлать тигра, уйдя во внутреннюю эмиграцию, можно проповедовать или отшельничать, но невозможно стать рыцарем. Для этого необходим Орден. А его нет. Только и остаётся, накатив портвейна, вызвать дух Жака де Моле.
Что же предполагает такая посылка? В том и проблема, что она ничего не предполагает. Традиционализм рождал и рождает всего две вещи – либо просвещенческий традиционализм в «духе» Руссо, либо романтический эскапизм.
Ведь кем были все (!) традиционалисты? Они были интеллектуалами-одиночками, которые писали книги, вращались в закрытых кружках, да занимались просвещением. Даже Эвола, имевший связи с фашизмом и нацизмом, так и остался для этих движений белой вороной. Отрицание же историзма приводит традиционалистов к эскапизму. Ведь если мир должен прийти к упадку и снова возродиться, то зачем его спасать? То, что произошло – это естественно. Так и должно быть. Это предопределено самой логикой Традиции. Поэтому не нужно суетиться и мельтешить. Нужно занять позицию наблюдателя, хранить в себе ростки Традиции и пытаться жить, как полагается воину или брахману в эпохе Упадка. То есть это опять же существование в атомарном обществе и индивидуализм Возрождения. Невозможно быть рыцарем без рыцарского ордена. Невозможно быть брахманом без соответствующей институции. А этого традиционалисты создать не могут. Да этого никто создать не может.
Всё, что традиционалисты смогли предложить – это концепция осёдланного тигра. Как её можно популярно изложить? Конечно же, с помощью народной русской частушки: «В лесу раздавался топор дровосека. Гонял дровосек топором гомосека. Устал, обессилел, упал дровосек... c улыбкой залез на него гомосек...». В данном случае абстрактный нонкомформист-гомосек – это правый анарх, а дровосек – тигр, то есть современный мир, которого рано или поздно оседлает хитрый гомосек. Концепция сама по себе неплоха, но она рождает всё тот же эскапизм, побег в выдуманные миры и в Традицию, которая не вылезает из компьютерного кресла. Кто-нибудь знает сегодня интересных правых анархистов? Нет, не знает. Потому что их нет. А почему их нет? Потому что они по ту сторону экрана хранят Традицию в себе.
Единственный традиционалист, который чего-то добился на практике – это Александр Дугин. Если брать под корень, то Дугин это второй (после Генона) традиционалист. Чувствуется, как сейчас усмехнулся читатель, но только Дугину удалось выйти из рамок банального просвещения, создать интеллектуальное движение и даже иметь кое-какое (небольшое) влияние на политическую власть в России. Но вот кроме Дугина сегодня нет никого. Есть либо скучнейшие пасынки сына Гелия – Сперанская, Коровин, за которых просто стыдно, либо молодая поросль, которая Дугина боготворит или ненавидит, реализуя тем самым Эдипов комплекс. По итогу остаётся пустота, где в бороду смеётся хитрый Дугин. Кстати, один из аргументов против традиционализма – он не умеет смеяться. Традиционализм патологически серьёзен. Шутит только молодёжь, но чаще в духе портвейна «777». Юмор в традиционализм принёс Дугин, который мог остроумно разложить песню Кати Лель.
И это не только лишь шутка. Ведь традиционализм – это порождение Современности. Он вышел из того же корня, из которого вышел «New-Age». И рождает традиционализм такой же тип людей, какой рождает «New-Age» – эзотерических юношей и девушек, начитавшихся Блаватской и Трисмегиста, которые вместо геноновского опия употребляют циклодол. Традиционализм обречён воспроизводить отражение постмодерна, не в силах его ни преодолеть, ни даже высмеять. Сегодня можно оседлать тигра, уйдя во внутреннюю эмиграцию, можно проповедовать или отшельничать, но невозможно стать рыцарем. Для этого необходим Орден. А его нет. Только и остаётся, накатив портвейна, вызвать дух Жака де Моле.
>Если когда-нибудь дойдёшь до сравнения исследователей Ницше, рассказывай
Ну вот, тебе сказать нечего, ты просто доебался даже не сказав ничего по существу про обзоры на Ницше от Ежи.
Так же ты увильнул от демонстрации своего списка хороших русскоязычных ницшеведов. Почему?
Традиционализм придумал не Генон, а католик Луи де Бональд.
Объясни тогда ты помешанность на говне и жопах в речи и мышлении двачеров, СНГ дяханов и неокультуренных негров. У первых двух почти всегда неизящно перетекает в гомотематику. Я это сколько не наблюдаю, удивление до конца не пропадает.
Сейчас нет. Когда был поглупее, то любое табуированное или попросту ненормальное, нелепое смешило. Сейчас только абсурдизм смешит, потому что непредсказуем. Если абсурдная ситуация будет с говном и хуями, то будет смешно.
>абсурдизм смешит
Ну так потому двачеры и доводят форсы с говном до абсурда вроде коверканья любых слов.
Я про другой абсурд. Про абсурд ближе к сюрреальному, нелогичному, полный разрыв шаблона. То, что школьники матерятся через слово это не разрыв шаблона, это его прямое подтверждение.
Изначально мне любопытно почему постоянно коверкают слова и почему именно через говно- и хуе-тематику. Кому и чему они корчат рожи? Главенствующим символам, означающим? Они так как бы обмазывают их говном, в животном смысле помечая собой? Ассоциируют ли они тогда себя с говном или только с компульсивными срунами на чужой территории? А свой виртуальный хуй тогда они показывают вероятным оскопляющим структурам или кому?
КОВЕ́РКАНЬЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. коверкать. Развивать свою индивидуальность художника, особенно в области слова, — значит избегать в языке коверканья и ошибок, допускаемых газетой, и, стало быть, поднимать общий уровень газетной речи.
А двачеры соответственно выступают тут в роли антихуйдожников. Что тоже своего рода художество.
Ну не каждый школьник умеет коверкать так же остроумно и изобретательно как двачеры. Обычно школьники просто матерятся без выдумки.
Двачеры же расписывают целые пасты про говно и хуи на манер Сорокина, а зачастую и лучше его.
>срунами на чужой территории?
Скорее всего это. Да, в людях все та же био-основа животных, потому от темы говна никуда не деться. Так пусть же она будет хотяб максимально креативна! К чему это жеманство и ханжество?
А коверкаемое тогда у них с чем ассоциируется? К какому идеальному положению вещей они стремятся, что хотят заместить своим?
>К чему это жеманство и ханжество?
Нету его. Есть желание понять немного глубже данное явление. Это для меня сорт оф дополнительный язык/терминологический аппарат, позволяющий понять иначе совершенно непрозрачные мотивы окружающих, их копро логику. Как тогда вся эта копротема вписывается в тематику "господин и раб"?
Просто вульгарно этологически? Типа как собака на хозяина смотрит и ждёт защиты/одобрения, а гаденье на воле подразумевает большие риски? Или как там это на людей ложится в плане приручения к горшку, графику и т.п. в рамках фрейдизма и не только.
Другими словами, кривляющиеся, они что, некоему дискурсивному регулятору процесса сранья в пику поступают? Типа "нет, срём, как хотим и когда и где хотим!".
>Как тогда вся эта копротема вписывается в тематику "господин и раб"?
Почему она должна обязательно туда вписываться? Разве существует только эта тема? Ну тогда двачеры - Господа от Природы, срут где как и когда хотят.
У всех по-разному. Двачеры все-таки неоднородны.
На чужой доске, чужими словами в рамках чужих ментальных конструктов и кучи неписанных правил недомизантропии.
Хейтер это всегда раб, стремящийся сместить хозяина, имхо, а не стремящийся обрести самовластие.
>на чужой доске
На какой? Почему? Кто? Какие правила? О чем ты?
>хейтер
А где ты видишь хейтеров?
>имхо
Ну вот видишь.
Это метод десакрализации. Самый простой и с детства знакомый, ибо прежде Нише и Платона люди познают, что кал нечист.
Взять ницшешизиков: их нельзя образумить логосом, только лишь извергнуть из собрания путём обмазывания нечистым.
 1,2 Мб, 1561x1323
1,2 Мб, 1561x1323Двачую.
Вы, кретины, такие редкостные идиоты...
Проблема не в рессентименте. Проблема что мир который вы творите (включая христианский мир) это наискучнейшая вещь. Динамика sensory salience и дофаминово-гормонально-нейромедиаторных-эндорфиновых-ноцицепторных-ипрочих-атакжепсихоаналитических-идаженейрокогнитивных (короче: естественных) цепей причина-следствие просто неизбежно приводит к восстанию. Будь то через декаданс как во время Нерона (что немного сомнительно, очевидно что его много очерняли, но и в этом есть правда, хотя бы с факта очернения можно сделать вывод, что делать этим гениям было нечего) и якобы следующий "рессентимент рабов", или ещё через какую "нейрошизу" "биоробота", куда вас ни направь, - там вы и окажетесь. (Даже не понимая как вас направили, куда и что собственно "это всё было?")
Разнообразие есть условие жизни [как деятельности]. Если разнообразие подавляется, то единственно интересной деятельностью не остаётся ничего кроме подавления сил, которые это самое разнообразие и подавляют. Это просто необходимость. И в этом не обязательно даже есть рессентиментность, это просто элемент функционирования "биороботов" в "системе". Вот вам и "формулирование": сколько "логос" не подавляй, всё равно ничего не выйдет, т.к. подавление само уже есть условие действительности. Подавление против (самого себя) подавления даёт бессмыслицу. Итого: нигилизм. (Когда как можно было бы разнообразить действия/выражения-силы/волю-к-власти и тем самым более различно конструировать мир.)
(Существование как таковое не является самоцелью. Цели, точнее, стремление к целям (новизне и не только), особенно attention и attention span, уж тем более организуются через дофаминовые структуры. Замыкать людей в квадраты и гнёзда в такой ситуации биологической структуризации существ-"людей" это просто, конечно, насилие, но что важнее, это просто лень. Вот именно ленью и характеризуется всякое "насилие", - лучше и проще делать по привычке, чем делать по-новому, каждый день. Следовательно: ваш кретинизм, как естественное следствие, и необходимость. (Следовательно, почти все старики (за исключением), - кретины, только тогда и когда и потому, что дофаминовые цепи у них уже практически не функционируют, а старые привычки и отсутствие эмпатии сильнее. Следовательно, системы, полагающиеся на сугубо старческие задницы в креслах, - идиотизм, и к самообновлению/аутопоэзисы, - не возмездно в виде недофаминовых стимулов, - просто не способны, per se. Короче: старики у руля = частичная-естественность ("как бы калека").))
Вы, кретины, такие редкостные идиоты...
Проблема не в рессентименте. Проблема что мир который вы творите (включая христианский мир) это наискучнейшая вещь. Динамика sensory salience и дофаминово-гормонально-нейромедиаторных-эндорфиновых-ноцицепторных-ипрочих-атакжепсихоаналитических-идаженейрокогнитивных (короче: естественных) цепей причина-следствие просто неизбежно приводит к восстанию. Будь то через декаданс как во время Нерона (что немного сомнительно, очевидно что его много очерняли, но и в этом есть правда, хотя бы с факта очернения можно сделать вывод, что делать этим гениям было нечего) и якобы следующий "рессентимент рабов", или ещё через какую "нейрошизу" "биоробота", куда вас ни направь, - там вы и окажетесь. (Даже не понимая как вас направили, куда и что собственно "это всё было?")
Разнообразие есть условие жизни [как деятельности]. Если разнообразие подавляется, то единственно интересной деятельностью не остаётся ничего кроме подавления сил, которые это самое разнообразие и подавляют. Это просто необходимость. И в этом не обязательно даже есть рессентиментность, это просто элемент функционирования "биороботов" в "системе". Вот вам и "формулирование": сколько "логос" не подавляй, всё равно ничего не выйдет, т.к. подавление само уже есть условие действительности. Подавление против (самого себя) подавления даёт бессмыслицу. Итого: нигилизм. (Когда как можно было бы разнообразить действия/выражения-силы/волю-к-власти и тем самым более различно конструировать мир.)
(Существование как таковое не является самоцелью. Цели, точнее, стремление к целям (новизне и не только), особенно attention и attention span, уж тем более организуются через дофаминовые структуры. Замыкать людей в квадраты и гнёзда в такой ситуации биологической структуризации существ-"людей" это просто, конечно, насилие, но что важнее, это просто лень. Вот именно ленью и характеризуется всякое "насилие", - лучше и проще делать по привычке, чем делать по-новому, каждый день. Следовательно: ваш кретинизм, как естественное следствие, и необходимость. (Следовательно, почти все старики (за исключением), - кретины, только тогда и когда и потому, что дофаминовые цепи у них уже практически не функционируют, а старые привычки и отсутствие эмпатии сильнее. Следовательно, системы, полагающиеся на сугубо старческие задницы в креслах, - идиотизм, и к самообновлению/аутопоэзисы, - не возмездно в виде недофаминовых стимулов, - просто не способны, per se. Короче: старики у руля = частичная-естественность ("как бы калека").))
 175 Кб, 372x267
175 Кб, 372x267(Вот вам и Дугингин. Приехали, блять. Северная корефация.))
 6 Кб, 258x195
6 Кб, 258x195>Но вот кроме Дугина сегодня нет никого
Последователей Дугина талантливых действительно нет, это связано скорее всего с тем, что у него дурной характер и ужиться с ним могут только лизоблюды, и сам он "принимает" только лизоблюдов, которые чаще всего бездарны.
Но кроме хейтеров и еретиков (которые на самом деле часто тоже бездарны...) есть люди, испытавшие влияние Дугина и движений, в которые он вложил свой дух (нацболы, интернет-подполье). И это могут быть люди в самых разных областях, от музыки (см. например Настасья Хрущева и половина украинского андеграунда) до собственно философии.
Тж. кроме Дугина есть другие южинцы, от которых Дугин традиционализм принял, от них тоже сеть влияния очень большая, начиная от мусульманских поклонников джихадыча, до любителей литературы и добившихся признания художников, респектующих Мамлееву, и поэтов, культистов и даже филологов, респектующих Головину. У всех у них так или иначе есть отпечатки тайной доктрины какой-то, назовем ее неписанной, поверхностные или глубокие
>нацболы
Проиграл как рот Лимонова хую негра
>интернет-подполье
Проиграл в голосяндру! Кто это? Инцелы с харкачей?
>украинский андерграунд
Типа группы "Закрытое общество и его друзья"?
https://youtu.be/4DzRS9-9VSY?si=mzb0YAy2vOURyBRE
https://youtu.be/ahEp6hG1GZg?si=_7fmpLM4PIc0ASN6
https://youtu.be/ZQvbqXSrK_g?si=-T9uJYyfDssl0pj5
https://youtu.be/BU005EjDm2g?si=HA0K9En6M-aK1g0j
>Пикантно и то, что традиционализм возник в самом сердце Современности, на Западе. Причём возник в тот момент, когда Запад был колоссально силён и подчинил себе практически весь мир
Имхо немалую роль здесь играет никто иной как Нитьша. Он конечно не убил Бога, но первый ясно провозгласил, что Бог умер — из-за того, что «вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия» (unglaubwürdig). И появление традиционализма можно назвать появлением новой веры, заслуживающей (на первый взгляд, на первые 50 лет) доверия, в отличие о старой по-настоящему традиционной.
Дело кстати не только в христианстве, — в карму и перерождения, мухаммеда, духов предков и магию стало верить так же трудно, как в библию и воскресение евреев.
«Величайшее из новых событий — что “Бог умер” и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени. По крайней мере, тем немногим, чьи глаза и подозрение в глазах достаточно сильны и зорки для этого зрелища, кажется, будто закатилось какое-то солнце, будто обернулось сомнением какое-то старое глубокое доверие: с каждым днем наш старый мир должен выглядеть для них все более закатывающимся. Более подозрительным, более чуждым, “более дряхлым”. Но в главном можно сказать: само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком недоступно восприятию большинства, чтобы и сами слухи о нем можно было считать уже дошедшими, — не говоря о том, сколь немногие ведают еще, что, собственно, тут случилось и что впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, — к примеру, вся наша европейская мораль».
"Сакрализируют" они таким образом себя самих?
Или что за общей деструктивностью черни стоит? Зачем ломают почтовые ящики, топчут клумбы, рисуют уродства на чужих вещах? Или деструктивность для них неразделима с помечанием территории?
Является ли чистая деструктивность самовыражением в его зародышевой стадии или же является патологией, передающейся через неумелое воспитание?
>это предтеча «New-Age», а, чаще всего, и есть «New-Аge».
Традиционализм и New-Age действительно сходны, но это слишком простое утверждение, потому что известны общие предки New Age и традиционализма, которых можно найти еще до Блаватской, а сама Блаватская была до традиционалистов. Смотри например ранних синкретических деятелей völkische, ариософы, обычные спиритисты и много подобных Блаватской любителей Индии, а еще было некое условно "левое" крыло völkische, из которого развился натуризм (когда люди ходят голые) https://ru.wikipedia.org/wiki/Lebensreform , и из них скорее надо прослеживать американский New Age. А не традиционализм из New Age (и тем более не наоборот)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монте_Верита
>Проиграл в голосяндру! Кто это? Инцелы с харкачей?
Нет, это не инцелы с харкачей
>Типа группы "Закрытое общество и его друзья"?
Да, ее автор в интервью говорил тупо что серьезно увлекался творчеством Дугина (именно его самого). Есть и другие группы, также есть косвенное влияние через Корчинского и Юрченко и наверное всяких там еще (я не имею отношения к Украине, если кто знает может просветить)
>Проиграл
В генетическую лотерею, наверное
Ладно, извини. Гугли там Яроврата, Вербицкого, Арктогея, или даже даже http://thule.primordial.org.ua/mesogaia/ukradeptes.htm
«Контркультура в Живом Журнале: акселерационизм и темное просвещение по-русски» https://web.archive.org/web/20211017224703/https://knife.media/livejournal/
>Яроврат
Слышал краем уха лучше б не знал.
>акселерационизм
Тоже знаю. Даже помню ролики Казимирки, но он благо излечился от этого душевного недуга.
Если это и есть интернет-сопротивление, то оно уровня двачеров, а может и хуже.
 467 Кб, 720x405
467 Кб, 720x405Право, устал я вечно быть пастухом твоим! До сих пор я пел тебе, чародейка, а теперь – ты у меня закричишь!
В такт плетке моей будешь ты плясать и кричать! Ведь я не забыл плетку? Нет!
Вопрошаю вас (и любого другого анонима, кому близки размышления о книге) товарищ ницшевед, как вы относитесь к книге [или с большой буквы?]
Кстати, вы не знакомы с Подорогой как читателем Ницше? Если да, то как он вам? Да, Подорога известен тем, что как раз постоянно пишет о себе, прикрываясь то Прустом, то Белым, то Бартом [от тоски по маме до непризнанности], но у него такой приятный мягкий стиль, иногда почитываю именно в плане поиска формы [подражания], но интересно именно ваше мнение
То есть Подорога неоднократно признаёт, что книга у него как-то не получается [то мысли повторяются, то объём большой, то не читает никто] и тут он встречает Ницше, в котором находит что-то от себя... может быть
Вот пример [особенно последний абзац, вы как внимательный читатель сможете узнать или не узнать Ницше, схватить Подорогу в моменте перехода к себе, если таковой имеется]
Валерий Подорога - "Выражение и смысл"
Фрагментарность, незаконченность, метафоричность — вот первое, с чем сталкивается читатель при знакомстве с литературными опытами Ницше. Порой они кажутся ему грудой сырых материалов, которые еще должны пройти тщательную авторскую обработку. В действительности, редкое философское сочинение может сравниться с этими книгами по насыщенности культурными и мифическими символами, по количеству сценических представлений и странных персонажей, по свободе, которой обладает язык, при нимая на себя личины многих стилей. Да и философские ли они? Всегда на пересечении: еще не литература, театр, или опера, но уже и не научная позитивная философия — явный знак размывания жанров. Как будто налицо свидетельства литературной “сделанности” ницшевской прозы, и они указывают на присутствие формы, которую можно не принимать во внимание при осмыслении идей Ницше в традиционных терминах немецкой классической метафизики. Если же нет, если формальные условия создания подобного типа текстов неотделимы от их содержательно-смысловой структуры, что мыслится — от того, как мыслимое сообщается? Проблему не разрешить исключением формы. И главным образом потому, что, экспериментируя в области афористического письма, Ницше отказался от использования традиционных коммуникативных средств, он не писал книг, т.е. не стремился создавать корпус текстов, общепринятых в философской традиции, чье содержание могло бы быть сведено к ряду исходных, линейно упорядочивающих мыслительный и литературный материал формальных принципов. Книга как система, книга, подчиненная архитектоническому идеалу, с безупречной симметрией категорий, поддерживающих друг друга подобно кирпичной кладке, — эта книга чужда Ницше
<...>Все эти вопросы можно свести к одному: как преодолеть картезианский образец книги, надолго определивший идеал научно философского исследования в европейской культуре?
Для декартовского философского опыта (с его схоластической организацией текста в форме трактата) было очевидным, что всякий, вступающий в область научной дискуссии и начинающий методически мыслить, должен ввести запрет на биогенетическую неповторимость телесных образов (метафор, символов, знаков страсти и веры), в каждом шаге мышления он должен элиминировать себя как конкретную эмпирическую субъективность, и это вполне законно, раз Бог — этот, пожалуй, единственный гарант трансцендентальной мысли — обеспечивает в качестве анонимного автора истинность познавательных процедур. Знаменитые правила метода Декарта: ясность и отчетливость, деление, порядок изложения от простого к сложному, нумерация — представляют собой не столько принципы познания, сколько правила организации уже познанного в форме трактата. Декартовская книга логоцентрична, так как ее экология целиком зависит от божественного всеупорядочивающего начала. Свет — источник порядка, различий, возможностей исчисления; он уравнивает, делает одно родным, линейным поле восприятия мыслимого, исключая возможность ошибки, появления грез, сновидений или эксцессов безумия. Проблема множественности интерпретаций того же самого не может возникнуть. Осуществляется прямая коммуникация с читателем, истина передается “из рук в руки”: свет идет непрерывно, без задержек и искажений. Однов ременно в каждое мгновение чтения классической книги продолжается работа по концентрации мыслительных усилий читающего, язык — лишь повод, прозрачное средство, приводящее мыслимое в соответствие с трансцендентальной позицией читающего. Движущийся слева направо, в одной монотонии, куда не проникает звучание других словесных рядов, философский язык лишается собственной плотности, независимой от того, кто им пытается мыслить. Божество декартовской мысли — это божество геометрического глаза, управляющего светом
Воля к афоризму, заявляемая Ницше, — иная воля, воля к асистемности: текстовое пространство плюрализуется, утрачивает центр и уникальную перспективу, конец и начало; его уже не прочитать привычным ходом глаз слева направо, не встречая других направлений и ритмов чтения. Сила афористического письма является внешней себе и не локализуется ни в каком выделенном месте текста, имени или утверждении, она словно озабочена тем, как на минимальном пространстве высказываемого создать избыток смысла, которым читатель не в силах овладеть без остановки и замедления чтения. В книгах Ницше, которые так мало претендуют на то, чтобы считаться “книгами”, трудно отыскать некое деспотическое авторское “я”, которое соединяло бы в единую перспективу завершенного философского опыта все мыслимое и до конца управляло бы всеми языковыми силами и экспериментами: авторское честолюбие заключается в том, чтобы “не появляться в своем индивидуальном об лике”. Не случайно, что именно в Стерне видел Ницше наиболее раскрепощенного и свободного писателя
Вопрошаю вас (и любого другого анонима, кому близки размышления о книге) товарищ ницшевед, как вы относитесь к книге [или с большой буквы?]
Кстати, вы не знакомы с Подорогой как читателем Ницше? Если да, то как он вам? Да, Подорога известен тем, что как раз постоянно пишет о себе, прикрываясь то Прустом, то Белым, то Бартом [от тоски по маме до непризнанности], но у него такой приятный мягкий стиль, иногда почитываю именно в плане поиска формы [подражания], но интересно именно ваше мнение
То есть Подорога неоднократно признаёт, что книга у него как-то не получается [то мысли повторяются, то объём большой, то не читает никто] и тут он встречает Ницше, в котором находит что-то от себя... может быть
Вот пример [особенно последний абзац, вы как внимательный читатель сможете узнать или не узнать Ницше, схватить Подорогу в моменте перехода к себе, если таковой имеется]
Валерий Подорога - "Выражение и смысл"
Фрагментарность, незаконченность, метафоричность — вот первое, с чем сталкивается читатель при знакомстве с литературными опытами Ницше. Порой они кажутся ему грудой сырых материалов, которые еще должны пройти тщательную авторскую обработку. В действительности, редкое философское сочинение может сравниться с этими книгами по насыщенности культурными и мифическими символами, по количеству сценических представлений и странных персонажей, по свободе, которой обладает язык, при нимая на себя личины многих стилей. Да и философские ли они? Всегда на пересечении: еще не литература, театр, или опера, но уже и не научная позитивная философия — явный знак размывания жанров. Как будто налицо свидетельства литературной “сделанности” ницшевской прозы, и они указывают на присутствие формы, которую можно не принимать во внимание при осмыслении идей Ницше в традиционных терминах немецкой классической метафизики. Если же нет, если формальные условия создания подобного типа текстов неотделимы от их содержательно-смысловой структуры, что мыслится — от того, как мыслимое сообщается? Проблему не разрешить исключением формы. И главным образом потому, что, экспериментируя в области афористического письма, Ницше отказался от использования традиционных коммуникативных средств, он не писал книг, т.е. не стремился создавать корпус текстов, общепринятых в философской традиции, чье содержание могло бы быть сведено к ряду исходных, линейно упорядочивающих мыслительный и литературный материал формальных принципов. Книга как система, книга, подчиненная архитектоническому идеалу, с безупречной симметрией категорий, поддерживающих друг друга подобно кирпичной кладке, — эта книга чужда Ницше
<...>Все эти вопросы можно свести к одному: как преодолеть картезианский образец книги, надолго определивший идеал научно философского исследования в европейской культуре?
Для декартовского философского опыта (с его схоластической организацией текста в форме трактата) было очевидным, что всякий, вступающий в область научной дискуссии и начинающий методически мыслить, должен ввести запрет на биогенетическую неповторимость телесных образов (метафор, символов, знаков страсти и веры), в каждом шаге мышления он должен элиминировать себя как конкретную эмпирическую субъективность, и это вполне законно, раз Бог — этот, пожалуй, единственный гарант трансцендентальной мысли — обеспечивает в качестве анонимного автора истинность познавательных процедур. Знаменитые правила метода Декарта: ясность и отчетливость, деление, порядок изложения от простого к сложному, нумерация — представляют собой не столько принципы познания, сколько правила организации уже познанного в форме трактата. Декартовская книга логоцентрична, так как ее экология целиком зависит от божественного всеупорядочивающего начала. Свет — источник порядка, различий, возможностей исчисления; он уравнивает, делает одно родным, линейным поле восприятия мыслимого, исключая возможность ошибки, появления грез, сновидений или эксцессов безумия. Проблема множественности интерпретаций того же самого не может возникнуть. Осуществляется прямая коммуникация с читателем, истина передается “из рук в руки”: свет идет непрерывно, без задержек и искажений. Однов ременно в каждое мгновение чтения классической книги продолжается работа по концентрации мыслительных усилий читающего, язык — лишь повод, прозрачное средство, приводящее мыслимое в соответствие с трансцендентальной позицией читающего. Движущийся слева направо, в одной монотонии, куда не проникает звучание других словесных рядов, философский язык лишается собственной плотности, независимой от того, кто им пытается мыслить. Божество декартовской мысли — это божество геометрического глаза, управляющего светом
Воля к афоризму, заявляемая Ницше, — иная воля, воля к асистемности: текстовое пространство плюрализуется, утрачивает центр и уникальную перспективу, конец и начало; его уже не прочитать привычным ходом глаз слева направо, не встречая других направлений и ритмов чтения. Сила афористического письма является внешней себе и не локализуется ни в каком выделенном месте текста, имени или утверждении, она словно озабочена тем, как на минимальном пространстве высказываемого создать избыток смысла, которым читатель не в силах овладеть без остановки и замедления чтения. В книгах Ницше, которые так мало претендуют на то, чтобы считаться “книгами”, трудно отыскать некое деспотическое авторское “я”, которое соединяло бы в единую перспективу завершенного философского опыта все мыслимое и до конца управляло бы всеми языковыми силами и экспериментами: авторское честолюбие заключается в том, чтобы “не появляться в своем индивидуальном об лике”. Не случайно, что именно в Стерне видел Ницше наиболее раскрепощенного и свободного писателя
 49 Кб, 524x589
49 Кб, 524x589Так.
Сперва motto:
Тот, кто пишет кровью и пословицами, не хочет, чтобы его читали, а чтобы его заучивали наизусть.
В горах самый короткий путь — от вершины к вершине: но для этого нужно иметь длинные ноги. Пословицы должны быть вершинами, а те, кому они произносятся, должны быть великими и высокими.
Воздух разреженный и чистый, опасность близка, а дух полон веселой злобы: так что все это хорошо сочетается.
Затем введение:
Старая теологическая проблема «веры» и «знания» — или, яснее, инстинкта и разума — то есть вопрос о том, заслуживает ли инстинкт в оценке вещей большего авторитета, чем рациональность, которая требует, чтобы суждение и действие основывались на причинах, на «почему?», а не на целесообразности и пользе, — все еще остается той старой моральной проблемой, какой она впервые появилась в лице Сократа и разделенных умов задолго до христианства. Сам Сократ, с его вкусом таланта — таланта превосходного диалектика — изначально встал на сторону разума; и, по правде говоря, что он делал всю свою жизнь, как не смеялся над неловкой некомпетентностью своих благородных афинян, которые, как все благородные люди, были людьми инстинкта и никогда не могли предоставить достаточной информации о причинах своих действий? Но в конце концов, тихо и тайно, он посмеялся над собой: он обнаружил в себе, перед своей более утонченной совестью и самоанализом, ту же самую трудность и неспособность. Но зачем, сказал он себе, отстраняться от инстинктов ради этого! Нужно помогать им и рассуждать, чтобы быть правым, нужно следовать инстинктам, но убеждать разум помогать им вместе с хорошими рассуждениями. В этом была настоящая ложь этого великого, таинственного ирониста; он довел свою совесть до того, что она довольствовалась своего рода самообманом: в сущности, он разглядел иррациональность в моральном суждении. Платон, более невинный в таких вопросах и без лукавства плебея, хотел доказать себе, затратив все свои силы — величайшие силы, которые когда-либо приходилось проявлять философу! — что разум и инстинкт естественным образом движутся к одной цели, к добру, к «Богу»; и со времен Платона все теологи и философы были на том же пути — то есть в вопросах морали инстинкт, или, как называют его христиане, «вера», или, как называю его я, «стадо», до сих пор торжествовали. Остается только исключить Декарта, отца рационализма (и, следовательно, дедушку революции), который признавал авторитет только разума: но разум — это всего лишь инструмент, а Декарт был поверхностен.
Затем суть:
>архитектоника
У меня от этого слова Бахтин. (Кстати, очень советую Бахтина-под-маской по этому поводу, там у него совсем короткие, насколько можно для того времени - строгие, эссе о том, как литература и что литература.)
Потому что "По ту сторону добра и зла" и "Так говорил Заратустра" выдержаны безупречно. Это подмечает и К. Свасьян (который очень хорошо знает немецкий), и отличает Заратустру от последних дифирамбов "Дионису" на основании анализа стиля.
Я могу только с ним согласиться, и к тому же, даже на русском (устаревшем переводе с неточностями и прочим), весь текст "По ту сторону добра и зла" с начала до конца безупречно выдержан, в сравнении, скажем, с "Человеческое, слишком человеческое" или "Весёлая наука". Он читается достаточно легко, "слева направо", сплошным образом, без разрывов, проскоков и перерывов, и воспринимается точно так же. "Так говорил Заратустра" - точно так же, с первой книги по четвёртую.
Далее, по поводу "асистематика". Чтобы не поскальзываться на дорожке к которой я не имею отношения (литератора, вроде Бахтина, и посетителя /bo а не /ph), следует заметить, что цель "Создавать вещи, на которых время будет понапрасну пробовать свои зубы; в форме, в субстанции домогаться маленького бессмертия – я никогда не был достаточно скромен, чтобы требовать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, для чего любому другому понадобилась бы целая книга, – и чего он и в целой книге не сказал бы…" достигается исключительно в силу максимы "Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности." И вопреки всем предубеждениям, этот самый "систематик" это и есть сам Ницше, который хотел написать книгу "Воля к власти". Это максима от Ницше для Ницше. И подробно это явление рассматривается в книжке по ницшеведению "Nietzsche an der Arbeit: Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren".
Поэтому, хоть стиль письма г. Подорога вызывает чрезвычайное уважение, нельзя не заметить нехватку умения читать, не соотнося текст с впечатлениями от текста, т.е. отделяя объективное от субъективного. Поэтому, хоть за эстетичность текста и описание самого явления "разорванности" этот текст нельзя укоризненно обвинять, конкретно за пользу в деле ницшеведения этот кусочек оставляет желать лучшего, и подлежит пересмотру и переосмыслению вышеупомянутым г. Подорогой.
И, наконец, outro:
Всякий, кто следил за историей одной науки, найдет в ее развитии руководство к пониманию древнейших и самых обычных процессов всякого «знания и познания»: там, как и здесь, сначала развиваются поспешные гипотезы, выдумки, добрая, глупая воля «верить», отсутствие недоверия и терпения — наши чувства поздно учатся и никогда не учатся полностью быть тонкими, верными, осторожными органами познания. Нашему глазу легче в определенном случае воссоздать образ, который он часто создавал, чем сохранить расходящиеся и новые аспекты впечатления: последнее требует больше силы, больше «нравственности». Слышать что-то новое болезненно и тяжело для уха; мы плохо слышим чужую музыку. Когда мы слышим другой язык, мы невольно пытаемся сформировать из слышимых нами звуков слова, которые звучат для нас более привычно и родно: например, немцы когда-то создали слово «armbrust» (арбалет) из слова «arcubalista» (арбалет). Новое также находит наши чувства враждебными и неохотными; и вообще, даже в «простейших» процессах чувственности доминируют такие аффекты, как страх, любовь, ненависть, включая пассивные аффекты лени. Так же, как читатель сегодня не зачитывает все отдельные слова (или даже слоги) на странице — скорее, он выбирает наугад примерно пять слов из двадцати и «угадывает» предполагаемое значение этих пяти слов, — так же мало мы видим дерево точно и полностью, с точки зрения листьев, ветвей, цвета и формы; нам гораздо легче представить себе что-то приблизительное о дереве. Даже посреди самых странных переживаний мы все еще делаем то же самое: мы изобретаем большую часть опыта и едва ли можем быть вынуждены не наблюдать какой-то процесс как «изобретатели». Все это означает: мы фундаментально, с древних времен, привыкли лгать. Или, выражаясь более добродетельно и лицемерно, короче говоря, более приятно: мы гораздо больше художник, чем осознаем. — В оживленной беседе я часто вижу лицо собеседника, в зависимости от мысли, которую он выражает или которую, как я полагаю, он вызвал, столь ясно и тонко очерченным передо мной, что эта степень ясности намного превосходит силу моего зрения: — тонкость мускульной игры и выражение глаз, должно быть, были добавлены мною. Человек, вероятно, сделал совершенно другое лицо или вообще не сделал никакого.
The end.
 49 Кб, 524x589
49 Кб, 524x589Так.
Сперва motto:
Тот, кто пишет кровью и пословицами, не хочет, чтобы его читали, а чтобы его заучивали наизусть.
В горах самый короткий путь — от вершины к вершине: но для этого нужно иметь длинные ноги. Пословицы должны быть вершинами, а те, кому они произносятся, должны быть великими и высокими.
Воздух разреженный и чистый, опасность близка, а дух полон веселой злобы: так что все это хорошо сочетается.
Затем введение:
Старая теологическая проблема «веры» и «знания» — или, яснее, инстинкта и разума — то есть вопрос о том, заслуживает ли инстинкт в оценке вещей большего авторитета, чем рациональность, которая требует, чтобы суждение и действие основывались на причинах, на «почему?», а не на целесообразности и пользе, — все еще остается той старой моральной проблемой, какой она впервые появилась в лице Сократа и разделенных умов задолго до христианства. Сам Сократ, с его вкусом таланта — таланта превосходного диалектика — изначально встал на сторону разума; и, по правде говоря, что он делал всю свою жизнь, как не смеялся над неловкой некомпетентностью своих благородных афинян, которые, как все благородные люди, были людьми инстинкта и никогда не могли предоставить достаточной информации о причинах своих действий? Но в конце концов, тихо и тайно, он посмеялся над собой: он обнаружил в себе, перед своей более утонченной совестью и самоанализом, ту же самую трудность и неспособность. Но зачем, сказал он себе, отстраняться от инстинктов ради этого! Нужно помогать им и рассуждать, чтобы быть правым, нужно следовать инстинктам, но убеждать разум помогать им вместе с хорошими рассуждениями. В этом была настоящая ложь этого великого, таинственного ирониста; он довел свою совесть до того, что она довольствовалась своего рода самообманом: в сущности, он разглядел иррациональность в моральном суждении. Платон, более невинный в таких вопросах и без лукавства плебея, хотел доказать себе, затратив все свои силы — величайшие силы, которые когда-либо приходилось проявлять философу! — что разум и инстинкт естественным образом движутся к одной цели, к добру, к «Богу»; и со времен Платона все теологи и философы были на том же пути — то есть в вопросах морали инстинкт, или, как называют его христиане, «вера», или, как называю его я, «стадо», до сих пор торжествовали. Остается только исключить Декарта, отца рационализма (и, следовательно, дедушку революции), который признавал авторитет только разума: но разум — это всего лишь инструмент, а Декарт был поверхностен.
Затем суть:
>архитектоника
У меня от этого слова Бахтин. (Кстати, очень советую Бахтина-под-маской по этому поводу, там у него совсем короткие, насколько можно для того времени - строгие, эссе о том, как литература и что литература.)
Потому что "По ту сторону добра и зла" и "Так говорил Заратустра" выдержаны безупречно. Это подмечает и К. Свасьян (который очень хорошо знает немецкий), и отличает Заратустру от последних дифирамбов "Дионису" на основании анализа стиля.
Я могу только с ним согласиться, и к тому же, даже на русском (устаревшем переводе с неточностями и прочим), весь текст "По ту сторону добра и зла" с начала до конца безупречно выдержан, в сравнении, скажем, с "Человеческое, слишком человеческое" или "Весёлая наука". Он читается достаточно легко, "слева направо", сплошным образом, без разрывов, проскоков и перерывов, и воспринимается точно так же. "Так говорил Заратустра" - точно так же, с первой книги по четвёртую.
Далее, по поводу "асистематика". Чтобы не поскальзываться на дорожке к которой я не имею отношения (литератора, вроде Бахтина, и посетителя /bo а не /ph), следует заметить, что цель "Создавать вещи, на которых время будет понапрасну пробовать свои зубы; в форме, в субстанции домогаться маленького бессмертия – я никогда не был достаточно скромен, чтобы требовать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, для чего любому другому понадобилась бы целая книга, – и чего он и в целой книге не сказал бы…" достигается исключительно в силу максимы "Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности." И вопреки всем предубеждениям, этот самый "систематик" это и есть сам Ницше, который хотел написать книгу "Воля к власти". Это максима от Ницше для Ницше. И подробно это явление рассматривается в книжке по ницшеведению "Nietzsche an der Arbeit: Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren".
Поэтому, хоть стиль письма г. Подорога вызывает чрезвычайное уважение, нельзя не заметить нехватку умения читать, не соотнося текст с впечатлениями от текста, т.е. отделяя объективное от субъективного. Поэтому, хоть за эстетичность текста и описание самого явления "разорванности" этот текст нельзя укоризненно обвинять, конкретно за пользу в деле ницшеведения этот кусочек оставляет желать лучшего, и подлежит пересмотру и переосмыслению вышеупомянутым г. Подорогой.
И, наконец, outro:
Всякий, кто следил за историей одной науки, найдет в ее развитии руководство к пониманию древнейших и самых обычных процессов всякого «знания и познания»: там, как и здесь, сначала развиваются поспешные гипотезы, выдумки, добрая, глупая воля «верить», отсутствие недоверия и терпения — наши чувства поздно учатся и никогда не учатся полностью быть тонкими, верными, осторожными органами познания. Нашему глазу легче в определенном случае воссоздать образ, который он часто создавал, чем сохранить расходящиеся и новые аспекты впечатления: последнее требует больше силы, больше «нравственности». Слышать что-то новое болезненно и тяжело для уха; мы плохо слышим чужую музыку. Когда мы слышим другой язык, мы невольно пытаемся сформировать из слышимых нами звуков слова, которые звучат для нас более привычно и родно: например, немцы когда-то создали слово «armbrust» (арбалет) из слова «arcubalista» (арбалет). Новое также находит наши чувства враждебными и неохотными; и вообще, даже в «простейших» процессах чувственности доминируют такие аффекты, как страх, любовь, ненависть, включая пассивные аффекты лени. Так же, как читатель сегодня не зачитывает все отдельные слова (или даже слоги) на странице — скорее, он выбирает наугад примерно пять слов из двадцати и «угадывает» предполагаемое значение этих пяти слов, — так же мало мы видим дерево точно и полностью, с точки зрения листьев, ветвей, цвета и формы; нам гораздо легче представить себе что-то приблизительное о дереве. Даже посреди самых странных переживаний мы все еще делаем то же самое: мы изобретаем большую часть опыта и едва ли можем быть вынуждены не наблюдать какой-то процесс как «изобретатели». Все это означает: мы фундаментально, с древних времен, привыкли лгать. Или, выражаясь более добродетельно и лицемерно, короче говоря, более приятно: мы гораздо больше художник, чем осознаем. — В оживленной беседе я часто вижу лицо собеседника, в зависимости от мысли, которую он выражает или которую, как я полагаю, он вызвал, столь ясно и тонко очерченным передо мной, что эта степень ясности намного превосходит силу моего зрения: — тонкость мускульной игры и выражение глаз, должно быть, были добавлены мною. Человек, вероятно, сделал совершенно другое лицо или вообще не сделал никакого.
The end.
> как вы относитесь к книге
В еврейском «Ветхом Завете», книге божественной справедливости, есть люди, вещи и изречения такого масштаба, что греческая и индийская литература не могут сравниться с ней. С ужасом и благоговением стоишь перед этими огромными остатками того, чем когда-то было человечество, и непременно грустишь о древней Азии и ее выдающемся полуострове Европы, который, по сравнению с Азией, определенно представляет собой «прогресс человечества». Конечно, тому, кто является всего лишь худым, ручным домашним животным и знает только потребности домашнего животного (как наши образованные люди сегодня, включая христиан «образованного» христианства), нечему удивляться, не говоря уже о том, чтобы печалиться этими руинами — вкус к Ветхому Завету — это пробный камень в отношении «великого» и «малого» — может быть, Новый Завет, книга благодати, все же придется ему по душе (в нем много настоящего, нежного, скучного запаха молитвенных братьев и малых душ). Склеить этот Новый Завет, своего рода рококо вкуса во всех отношениях, с Ветхим Заветом в одну книгу, как «Библию», как «саму книгу»: это, возможно, величайшая дерзость и «грех против духа», которые есть на совести литературной Европы.
 644 Кб, 1000x4015
644 Кб, 1000x4015>В еврейском «Ветхом Завете», книге божественной справедливости, есть люди, вещи и изречения такого масштаба, что греческая и индийская литература не могут сравниться с ней
Анти-Дарвин. — Что касается знаменитой «борьбы за жизнь», то она, как мне кажется, пока больше утверждается, чем доказана. Она имеет место, но как исключение; общая сторона жизни — не лишения, не состояние голода, а скорее богатство, излишества, даже нелепая расточительность — где есть борьба, там борются за власть... Не следует путать Мальтуса с природой. — Но предположим, что эта борьба существует — и действительно, она имеет место, — она, к сожалению, заканчивается наоборот, чем желает школа Дарвина, чем, может быть, можно было бы желать, а именно, в ущерб сильным, привилегированным, счастливым исключениям. Виды не растут в совершенстве: слабые всегда преобладают над сильными — вот почему их большинство, они также умнее... Дарвин забыл о духе (— это по-английски!), у слабых больше духа... Чтобы обрести дух, нужно иметь дух, — его теряют, когда он становится ненужным. Те, у кого есть сила, отрекаются от духа («Избавимся от него!» — так думают сегодня в Германии — «В конце концов, с нами Рейх».) Под духом, как вы видите, я подразумеваю осторожность, терпение, хитрость, притворство, большое самообладание и все, что является мимикрией (последнее включает в себя большую часть так называемой добродетели).
 284 Кб, 1734x2560
284 Кб, 1734x2560Хищника и хищного человека (например, Чезаре Борджиа) в корне не понимают; «природу» не понимают, пока продолжают искать «патологию» в основе этих самых здоровых из всех тропических монстров и растений, или даже врожденный «ад» — как это делали почти все моралисты до сих пор. Кажется, что моралисты питают ненависть к джунглям и тропикам? И что «тропический человек» должен быть дискредитирован любой ценой, будь то как болезнь и вырождение человека или как его собственный ад и самоистязание? Почему так? В пользу «умеренных зон»? В пользу умеренных людей? «Моральных»? Посредственных? — Это для главы «Мораль как робость».
... Что в течение тысяч лет европейские мыслители думали только о том, чтобы что-то доказать, — сегодня, наоборот, мы с подозрением относимся к любому мыслителю, который «хочет что-то доказать», — что они всегда знали, каким должен быть результат их самого строгого размышления, как это было в случае с азиатской астрологией в прошлом, или как это все еще происходит сегодня с безобидным христианско-моральным толкованием непосредственных личных событий «во славу Божию» и «для спасения души»: — эта тирания, этот произвол, эта строгая и грандиозная глупость воспитали ум; рабство, как представляется, и в более грубом, и в более тонком смысле является необходимым средством духовной дисциплины и обучения. Можно рассматривать любую мораль в этом свете: именно «природа» в ней учит нас ненавидеть laisser aller, ненавидеть чрезмерную свободу и культивирует потребность в ограниченных горизонтах, в непосредственных задачах, — учит сужению перспективы и, таким образом, в определенном смысле, глупости как условию жизни и роста. «Ты должен подчиняться, кому угодно, и надолго: иначе ты погибнешь и потеряешь всякое самоуважение» — таков, мне кажется, моральный императив природы, который, конечно, не «категорический», как требовал от него старый Кант (отсюда и «иначе»), не направлен на отдельную личность (какое ей дело до отдельной личности!), а направлен на народы, расы, эпохи, классы и прежде всего на все животное «человека», на человечество.
 284 Кб, 1734x2560
284 Кб, 1734x2560Хищника и хищного человека (например, Чезаре Борджиа) в корне не понимают; «природу» не понимают, пока продолжают искать «патологию» в основе этих самых здоровых из всех тропических монстров и растений, или даже врожденный «ад» — как это делали почти все моралисты до сих пор. Кажется, что моралисты питают ненависть к джунглям и тропикам? И что «тропический человек» должен быть дискредитирован любой ценой, будь то как болезнь и вырождение человека или как его собственный ад и самоистязание? Почему так? В пользу «умеренных зон»? В пользу умеренных людей? «Моральных»? Посредственных? — Это для главы «Мораль как робость».
... Что в течение тысяч лет европейские мыслители думали только о том, чтобы что-то доказать, — сегодня, наоборот, мы с подозрением относимся к любому мыслителю, который «хочет что-то доказать», — что они всегда знали, каким должен быть результат их самого строгого размышления, как это было в случае с азиатской астрологией в прошлом, или как это все еще происходит сегодня с безобидным христианско-моральным толкованием непосредственных личных событий «во славу Божию» и «для спасения души»: — эта тирания, этот произвол, эта строгая и грандиозная глупость воспитали ум; рабство, как представляется, и в более грубом, и в более тонком смысле является необходимым средством духовной дисциплины и обучения. Можно рассматривать любую мораль в этом свете: именно «природа» в ней учит нас ненавидеть laisser aller, ненавидеть чрезмерную свободу и культивирует потребность в ограниченных горизонтах, в непосредственных задачах, — учит сужению перспективы и, таким образом, в определенном смысле, глупости как условию жизни и роста. «Ты должен подчиняться, кому угодно, и надолго: иначе ты погибнешь и потеряешь всякое самоуважение» — таков, мне кажется, моральный императив природы, который, конечно, не «категорический», как требовал от него старый Кант (отсюда и «иначе»), не направлен на отдельную личность (какое ей дело до отдельной личности!), а направлен на народы, расы, эпохи, классы и прежде всего на все животное «человека», на человечество.
Сракин трикстер, поэтому может использовать деструктивность как инструмент. Трикстеры в серой зоне и часто вне разделения, как тот же Сауз Парк.
Он разве не условным совкам ретроспективно жопу показывает, как бы мстя за что-то запоздало?
Какой двачер господин? Цыгане, окопавшиеся около вокзала, господа?
Доска - вокзал. Двачеры на нём цыгане, чаще просто бомжи. То есть существа, хотя и вынужденно, по-животному наглые, но к господству отношения.не имеющие.
Ну и хейтеры эталонные. Иначе зачем всё искажать, коверкать, десакрализировать. Это же зависть банальная к тем, у кого сакральное есть.
Ребёнок из зависти, ревности может сломать чужую игрушку, даже побить того сиблинга, что получает больше внимания. Так же поступают и двачеры, просто абстрагированно.
>Я придаю ценность этому ницшев[и/е]дению...
«Важнейший ход, сделанный Хайдеггером: для Ницше бытие понимается как ценность. Здесь он тоже обнажает историю европейской метафизики – начиная с Платона она отождествляла высшее бытие с ценностью. А ценность — это человеческая оценка. Когда мы, например, определяли Бога через благо и говорили, что Бог — это благо, мы убивали Бога».
«Зачем мы это сделали? Зачем мы забыли бытие? Зачем мы превратили сущее в виды? Почему произошло обращение этих видов в представления нашего сознания? Здесь вступает Ницше как последнее, итоговое слово европейской метафизики, потому что всей европейской метафизикой изначально правит воля к власти.
Мы превратили сущее в субъективные репрезентации нашего сознания, чтобы овладеть им, вместо того чтобы слушать зов бытия у его истоков и пребывать в «Holzwege», на лесных тропах, где бытие открывается в просвете, в «Lichtung». Вместо этого мы устроили мир, которым хотим овладеть, и последнее слово в европейской мысли — это слово Ницше, это воля к власти. История европейской метафизики — это история субъективизации, история превращения всего сущего в видимое и представляемое, в осознаваемое. Осознаваемое — это то, над чем мы властвуем.
В этом смысле Ницше открывает, по Хайдеггеру, последнюю тайну истории европейской метафизики: вся европейская метафизика начиная с Парменида была одержима волей к власти. Ницше проговорил последнюю тайну всей европейской мысли и тем самым закончил эту историю. Для Хайдеггера Ницше — важная фигура, потому что, сказав последнее слово о воле к власти, Ницше исчерпал метафизику. Это слово — не только слово, просто написанное в сочинении мыслителя, мы реально видим это перед своими глазами, потому что европейская рационалистическая мысль воплощается в области техники».
Дарвин только и писал о духе и воле—об истинных, а не о фанфаронских. Трудно немцу понять такое!
>Он разве не условным совкам ретроспективно жопу показывает, как бы мстя за что-то запоздало?
Не, Сракин занимается искусством. Хотя одно другого не исключает.
В карму сложно поверить, потому что она не работает в пределах человеческой жизни. На вопрос почему (некоторые) купаются в золоте, убивают и их не настигает карма отвечают: мням, пук, ну карма работает сложно, стрельнет когда-нибудь в другой жизни. Пруфов нет.
Перерождение проще. Наблюдая за циклами времён года, рождения и смерти, можно задуматься. Жизнь и смерть противоположны. Не будь смерти, не было бы жизни. Было бы просто существование. Логично предположить что раз в других случаях циклы повторяются, то, возможно, есть перерождение.
Если трудно поверить в перерождение некоего духа, личности и подобного, то есть материалистичное перерождение.
Умерший оставляет после себя информацию:
в социуме – память близких, возможно передастся через пару поколений, а если человек великий, то на века; кто-то будущий может перенять идеи;
в материи – тело состоит из элементов, которые поглотят растения, затем животные, затем другие люди; буквально атомы умершего возможно тысячи лет назад человека сейчас в тебе;
Если бы ты родился в другой стране, с другими идеями, был бы ты сейчас тем же человеком? Вроде бы в древности был обычай называть детей в честь умерших предков. Детям могли рассказывать кем были их тёзки.
Ницше увечный, бракованный зверь, дрочивший на образ себя в виде сверхзверя. Сверхчеловек не равно сверхзверь.
Сложно сказать, что он там вообще думал, потому что это всё очень оторвано от реальности. Вебер и его монополия на насилие. Ранние европейские феодально-династические государства не обладали монополией на насилие, потому что феодалы строили свои замки, а пушек ещё не было, и силой их нихуя нельзя было принудить. Таким образом суверенитет монарха был размытым, градиентным, в духе нечётких множеств. Монарх был вынужден считаться с волей феодалов. Затем, в ходе научно-технического прогресса, подвезли пушки, и появилась возможность установить монополию на насилие. Наступил так называемый абсолютизм. А Ницше описывает это как утрату воли к власти со стороны аристократии. На мой взгляд, аристократы шли на службу монарху потому что тебя либо разъебут полностью, либо же ты получишь высокое положение в общественной иерархии, хоть и будешь теперь ходить под монархом. На мой взгляд аристократы в службе на монарха всё же проявляли волю к власти, но по Ницше - нет. Либо же тут третий вариант - Ницше в принципе понимает под волей к власти что-то другое, хуй его знает что.
>В карму сложно поверить, потому что она не работает в пределах человеческой жизни
Причина "сложно поверить" у всех религий одинаковая (речь идет о "смерти Бога" и его похоронах во вт. пол. 19 века) – развитие науки и распространение секулярного западного образования
– о источник вечности! О светлая, приводящая в трепет бездна полуденная! Когда снова вберешь ты в себя душу мою?
>174537
Чтобы принять правильное решение, нужно научиться использовать в качестве "земли" (оснований, предпосылок; "чем настойчивее стремится [человек] вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло"; "сердце земли – из золота") исключительно суждения внеморальные. Только при наличии пропозиций, находящихся вне заблуждений и власти морали (пример: суждения научного характера, из которых не следует ровным счётом никакой ни телеологии, ни морали), возможно создать моральные (is -> ought) установки ("танцующую звезду"), не противоречащие действительности ("как она есть"; "действительности" в смысле "потока действий", становления; "народ удваивает действие, вынуждая молнию сверкать: это - действие-действие; одно и то же свершение он полагает один раз как причину и затем еще один раз как ее действие").
Следовательно, "коррупция", - это отказ именно от привилегии властвовать на основании правдивости, знания о "положении дел", действительной власти. Это замена суждений неморального характера суждениями морального характера (а значит, искоренение научных истин и установка суждений моральных в качестве более важных). Это, в конечном счёте, утеря способности властвовать наиболее эффективным, в смысле Макиавелли, образом ("pur sang").
(И, следовательно, человек - это событие между "землёй" оснований ("материя"; в прошлом: метафизические основания: "Они думали, что прибило их к острову, когда кругом бушевало море; но смотрите – то было спящее чудовище! Ложные ценности и лживые слова заблуждений: для смертных это самые страшные чудовища – долго ждет в них дремлющий рок.") и "небом" вечных необходимостей ("звёзды", "идеи", "абстракции"; "психолог морали читает все звездные письмена только как язык символов и знаков, который дает возможность замалчивать многое"; "Мой глаз видит идеалы других людей, и зрелище это часто восхищает меня; вы же, близорукие, думаете, что это - мои идеалы."). То есть: воля к власти самой реальности, необходимость, fatum.)
И ещё раз: внеморальное/ателеологическое/неморальное всегда > чем [заведомо] морально ориентированные высказывания.
Если некогда я простирал над собой тихое небо и на собственных крыльях стремился в свои небеса;
– если, играя, я плавал в глубинах света, и птица-мудрость прилетала к свободе моей;
– и говорила мне так: "Взгляни, нет ни верха, ни низа! Всюду взмывай, вверх ли. вниз ли, – ты легкий! Пой! Перестань говорить!
– разве все слова не для тех, кто тяжел? Не лгут ли они тому, кто легок? Пой! Перестань говорить!":
– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!
Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!
Ибо я люблю тебя, о Вечность!
– о источник вечности! О светлая, приводящая в трепет бездна полуденная! Когда снова вберешь ты в себя душу мою?
>174537
Чтобы принять правильное решение, нужно научиться использовать в качестве "земли" (оснований, предпосылок; "чем настойчивее стремится [человек] вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло"; "сердце земли – из золота") исключительно суждения внеморальные. Только при наличии пропозиций, находящихся вне заблуждений и власти морали (пример: суждения научного характера, из которых не следует ровным счётом никакой ни телеологии, ни морали), возможно создать моральные (is -> ought) установки ("танцующую звезду"), не противоречащие действительности ("как она есть"; "действительности" в смысле "потока действий", становления; "народ удваивает действие, вынуждая молнию сверкать: это - действие-действие; одно и то же свершение он полагает один раз как причину и затем еще один раз как ее действие").
Следовательно, "коррупция", - это отказ именно от привилегии властвовать на основании правдивости, знания о "положении дел", действительной власти. Это замена суждений неморального характера суждениями морального характера (а значит, искоренение научных истин и установка суждений моральных в качестве более важных). Это, в конечном счёте, утеря способности властвовать наиболее эффективным, в смысле Макиавелли, образом ("pur sang").
(И, следовательно, человек - это событие между "землёй" оснований ("материя"; в прошлом: метафизические основания: "Они думали, что прибило их к острову, когда кругом бушевало море; но смотрите – то было спящее чудовище! Ложные ценности и лживые слова заблуждений: для смертных это самые страшные чудовища – долго ждет в них дремлющий рок.") и "небом" вечных необходимостей ("звёзды", "идеи", "абстракции"; "психолог морали читает все звездные письмена только как язык символов и знаков, который дает возможность замалчивать многое"; "Мой глаз видит идеалы других людей, и зрелище это часто восхищает меня; вы же, близорукие, думаете, что это - мои идеалы."). То есть: воля к власти самой реальности, необходимость, fatum.)
И ещё раз: внеморальное/ателеологическое/неморальное всегда > чем [заведомо] морально ориентированные высказывания.
Если некогда я простирал над собой тихое небо и на собственных крыльях стремился в свои небеса;
– если, играя, я плавал в глубинах света, и птица-мудрость прилетала к свободе моей;
– и говорила мне так: "Взгляни, нет ни верха, ни низа! Всюду взмывай, вверх ли. вниз ли, – ты легкий! Пой! Перестань говорить!
– разве все слова не для тех, кто тяжел? Не лгут ли они тому, кто легок? Пой! Перестань говорить!":
– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!
Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!
Ибо я люблю тебя, о Вечность!
Всякая радость жаждет вечности всех вещей ...
Ибо всякая радость хочет себя самой, а потому желает и горя!
О счастье! О скорбь! О высшие люди, научитесь же тому, что радость жаждет вечности,
– радость жаждет вечности всех вещей, жаждет глубокой, глубокой вечности!
О, человек! Внимай!
Что вещает глубокая полночь?
"Я спала,
И от глубокого сна пробудилась:
Мир глубок, –
И глубже, чем думает день.
Глубока боль мира –
И все же радость глубже, нежели скорбь.
Боль говорит: "Прейди!"
Но всякая радость жаждет вечности,
Жаждет глубокой, глубокой вечности!"
>Следовательно, "коррупция", - это отказ именно от привилегии властвовать на основании правдивости, знания о "положении дел", действительной власти.
Не было никакого отказа в том смысле, что в принципе не было никакой ситуации выбора, сохранить феодальной аристократии свои вольности или не сохранить. Потому что материальная основа их выёбистости перестала существовать, потому что суверен попросту разрушал пушками их замки и устанавливал монополию на насилие, то есть государственную власть. В чём тут состоит моральное падение, испорченность, зашкварность, ритуальная нечистота и коррупция - непонятно. От них этот фактор не зависел, появились пушки, всё, они проиграли.
Или это работает как мандат неба в Китае? Типа если ты больше не способен обеспечить свой суверенитет, значит ты потерял мандат неба.
Мы, иные, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, одобрению. Мы не отрицаем с такой легкостью, мы ищем чести для себя в том, чтобы быть утверждающими. Мы все больше ценим такую экономию, которая умеет пользоваться даже всем тем, что прежде отвергалось – отвергалось священным сумасбродством жреца, больным разумом в жреце, – на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительных разновидностей пустосвята, жреца, добродетельного, – какую выгоду? – Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...
Проблема в том, что ты думаешь, что Ницше - моралист, когда как он не делает моральных утверждений ("хорошо" или "плохо", "добро" или "зло"). Это первая ошибка.
Вторая ошибка в том, что там, где Ницше делает суждения дескриптивные, ты не видишь нормативные. Это нормальный для Ницше метод, т.к. он полагается прежде всего на историческую методику: всё, что было, принимается без осуждения, и затем рисуется дескриптивная картина, служащая нормативным целям относительно будущего в рамках исторической методики ("воли к власти"; ZGM-II-12). И там, где Ницше делает философские утверждения, которые имеют этико-политическую ценность, ты видишь утверждения, которые не вписываются в ницшевский метод: Ницше ни в одной точке рассуждения не желает "повернуть прошлое вспять", он критикует только чтобы выразить отношение, и выражением отношения открывает сущностно новую картину мира, которая следует из переосмысления прошлого таким-то методом ("воли к власти"), а не стандартным для исторической эпистемологии (которая следует Платону). Из-за того, что ты не понимаешь эпистемологическую позицию Ницше, тебе становится недоступно содержание его утверждений.
Третья ошибка в том, что ты упускаешь все остальные суждения Ницше, вырывая отдельные из общей картины (для точности: эта "общая картина" - это "По ту сторону добра и зла", "К генеалогии морали", все ссылки Ницше на собственные книги и введения в тексте "К генеалогии морали", "Сумерки идолов" и "Так говорил Заратустра"), и затем их "вопрошаешь", получая в ответ бессмыслицу. (Но это исправимо чтением текста, желательно немецкого, можно с переводом, лишь бы был оригинальный текст без упущений и неправильных корректировок.)
Твои затруднения заключаются в том, что ты думаешь, будто бы Ницше "требовал" от аристократов прошлого воевать против суверена, когда как его суждения направлены на область вне всех существующих общественных порядков. Поэтому проблема Ницше не в том, что аристократы "сдались", а в том, что все дескриптивные утверждения есть вместе с тем и нормативные, и делая дескриптивные утверждения, каждый учёный утверждает мир, отличный от прежнего. И, следовательно, чтобы не противоречить своей же позиции метода "воли к власти", он вынужден сделать (это "необходимо") именно такое, а не иное суждение.
Итого: Ницше излагает философию, а ты его читаешь, будто бы он историк. Но историк это не Ницше, а Буркхардт, или Ранке (я напомню, что во время Ницше история как дисциплина только-только начала развиваться). Вдобавок, сама методика истории, даже современной, подвергается постоянной критике и пересмотру, и метод исторический Ницше здесь вполне играет не самую последнюю роль, особенно в рамках этико-политических (хоть и "вне всех существующих общественных порядков"). (Другими словами: ты всё равно ничего не докажешь, сколько бы ты ни пытался спорить о тех или иных исторических событиях. Вот эта ситуация и есть ситуация "воли к власти" как исторической методики.)
Читай Ницше другим методом: постарайся понять, что он хочет сказать, и не более.
Мы, иные, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, одобрению. Мы не отрицаем с такой легкостью, мы ищем чести для себя в том, чтобы быть утверждающими. Мы все больше ценим такую экономию, которая умеет пользоваться даже всем тем, что прежде отвергалось – отвергалось священным сумасбродством жреца, больным разумом в жреце, – на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительных разновидностей пустосвята, жреца, добродетельного, – какую выгоду? – Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...
Проблема в том, что ты думаешь, что Ницше - моралист, когда как он не делает моральных утверждений ("хорошо" или "плохо", "добро" или "зло"). Это первая ошибка.
Вторая ошибка в том, что там, где Ницше делает суждения дескриптивные, ты не видишь нормативные. Это нормальный для Ницше метод, т.к. он полагается прежде всего на историческую методику: всё, что было, принимается без осуждения, и затем рисуется дескриптивная картина, служащая нормативным целям относительно будущего в рамках исторической методики ("воли к власти"; ZGM-II-12). И там, где Ницше делает философские утверждения, которые имеют этико-политическую ценность, ты видишь утверждения, которые не вписываются в ницшевский метод: Ницше ни в одной точке рассуждения не желает "повернуть прошлое вспять", он критикует только чтобы выразить отношение, и выражением отношения открывает сущностно новую картину мира, которая следует из переосмысления прошлого таким-то методом ("воли к власти"), а не стандартным для исторической эпистемологии (которая следует Платону). Из-за того, что ты не понимаешь эпистемологическую позицию Ницше, тебе становится недоступно содержание его утверждений.
Третья ошибка в том, что ты упускаешь все остальные суждения Ницше, вырывая отдельные из общей картины (для точности: эта "общая картина" - это "По ту сторону добра и зла", "К генеалогии морали", все ссылки Ницше на собственные книги и введения в тексте "К генеалогии морали", "Сумерки идолов" и "Так говорил Заратустра"), и затем их "вопрошаешь", получая в ответ бессмыслицу. (Но это исправимо чтением текста, желательно немецкого, можно с переводом, лишь бы был оригинальный текст без упущений и неправильных корректировок.)
Твои затруднения заключаются в том, что ты думаешь, будто бы Ницше "требовал" от аристократов прошлого воевать против суверена, когда как его суждения направлены на область вне всех существующих общественных порядков. Поэтому проблема Ницше не в том, что аристократы "сдались", а в том, что все дескриптивные утверждения есть вместе с тем и нормативные, и делая дескриптивные утверждения, каждый учёный утверждает мир, отличный от прежнего. И, следовательно, чтобы не противоречить своей же позиции метода "воли к власти", он вынужден сделать (это "необходимо") именно такое, а не иное суждение.
Итого: Ницше излагает философию, а ты его читаешь, будто бы он историк. Но историк это не Ницше, а Буркхардт, или Ранке (я напомню, что во время Ницше история как дисциплина только-только начала развиваться). Вдобавок, сама методика истории, даже современной, подвергается постоянной критике и пересмотру, и метод исторический Ницше здесь вполне играет не самую последнюю роль, особенно в рамках этико-политических (хоть и "вне всех существующих общественных порядков"). (Другими словами: ты всё равно ничего не докажешь, сколько бы ты ни пытался спорить о тех или иных исторических событиях. Вот эта ситуация и есть ситуация "воли к власти" как исторической методики.)
Читай Ницше другим методом: постарайся понять, что он хочет сказать, и не более.
>>4549
То есть даже его утверждение относительно "вот тут - decadence", это, по сути, констатация факта. Сами его действия есть необходимость ("Hier stehe ich — ich kann nicht anders."), а не "улучшение мира". Если бы он был как Шопенгауэр - он бы сделал утверждения как Шопенгауэр. Но Ницше не Шопенгауэр, поэтому он делает утверждения, свойственные Ницше и только Ницше. И что с этим "decadence" делать, - это решать "морякам", т.е. всем остальным, кто из будущего относительно Ницше (точно таким же образом, согласно необходимостям, которым ты воспротивиться не в силах, потому что это вне твоей власти).
Und da stehe ich schon,
als Europäer,
ich kann nicht anders, Gott helfe mir!
Amen!
Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt!
Stein knirscht an Stein, die Wüste schlingt und würgt.
Der ungeheure Tod blickt glühend braun
und kaut, — sein Leben ist sein Kaun…
Vergiss nicht, Mensch, den Wollust ausgeloht:
du — bist der Stein, die Wüste, bist der Tod…
>>4550
Ты просто заспамил всякой мутной хуйнёй и всё. Тут практически на каждое слово можно писать толкования, показывать логические ошибки и так далее.
Суть в том, что чисто объективно Ницше писал хуйню, он нихуя ничего не понимал, не видел исторического процесса и придумывал абсурдные интерпретации известных ему фактов. Его слова следует оценивать точно так же как и его действия по поглощению собственной мочи, то есть как плоды больного сознания.
>Ницше излагает философию, а ты его читаешь, будто бы он историк
А что такое философия? Дай определение. Это звучит как "он художник, он так видит". Типа писал по-вайбу всякую хуйню, и чего вы доебались.
"Суть" в том, что если ты Ницше не понимаешь, то тебе не положено. И хныканьё с нытьём своё оставь.
Либо разбирайся в теме, либо проваливай.
Так и понимать тут ровным счётом нечего. Все тексты Ницше - это тексты калоеда и мочепийцы, такие же безумные и бездумные, как и поедание кала, как и выпивание мочи. Это пустышка.
Вы верно говорите, но иногда нужно не переоценивать собеседника. Пусть это и редкость, но на Дваче бывают люди не просто в плохом настроении, малые возрастом и т.д., а действительно с хитросплетёнными психическими расстройствами как вот этот персонаж >>4554
То есть неправильно вести разговор таким образом. Напротив вас человек, испражнившийся в подгузник и надевший его на голову, он повернулся к окну и пустым взглядом смотрит на облака, а вы ему про понимание какое-то
Нам хочется верить, что человек просто прикидывается, но, увы
 557 Кб, 600x761
557 Кб, 600x761Лол, Ницше же буквально пил мочу и поедал кал. Он как раз "собеседник", снявший сапог, надудонивший туда и испивший. Это же буквально пример Хоры, как тут >>174108 (OP) упоминается, то есть чего-то глубоко дословестного и оформленного.
Ееесть такое. Видеть какие-то ресентименты везде где только можно и нельзя и рабов с господами - это клиника.
 55 Кб, 650x460
55 Кб, 650x460> Возможно, мочу он тоже пил со смыслом, а я чего-то не понимаю.
Муравьи общаются химическими веществами. Слепые люди узнают смыслы, прикасаясь к бугоркам и впадинам. Ницше же философствовал вкусовыми рецепторами, исследовал высшие смыслы (Брахмана-Диониса) в переливистых оттенках соленой жидкости. У него была такая способность, он был одарен тончайшей чувствительностью, и нечего ему завидовать.
«Мой вкус, являющий собой, должно быть, противоположность снисходительного вкуса, и здесь далек от того, чтобы всему без разбора говорить Да: он вообще неохотно говорит Да, охотнее Нет, а больше всего предпочитает ничего не говорить…»
Почему он пил мочу? Потому что после этого он размышлял впечатлениями от нее. Он искал новые понятия, и решился на такой авангардный проект преодоления метафизки, начав мыслить глубочайшее при помощи вкусовых представлений. На изображении он, вполне вероятно, осмысляет Проблему Сократа в терминах вкусовых тонов.
А Пахом из фильма "Зелёный слоник" тоже поэтому решился? Надо изучать фикалософию Пахома, получается.
https://youtu.be/ltBjssoIZM8?si=KLQGf21abI1OYhBH
Если вы материалист, то готовы ли к тому, что после смерти окажется, что вы (ваше сознание/душа) продолжит существование?
Если у вас есть прижизненная возможность улучшить свою посмертную участь, то сделали бы вы это?
>174554
Наша судьба властвует над нами, даже если мы еще этого не знаем; именно будущее дает нашему настоящему правило. Поскольку именно проблему иерархии мы, свободные умы, можем назвать своей проблемой: теперь, в полдень нашей жизни, мы впервые понимаем, какие приготовления, обходные пути, испытания, искушения, маскировки требовала эта проблема, прежде чем ей было позволено встать перед нами, и как нам сначала пришлось испытать самые разнообразные и противоречивые состояния лишений и счастья души и тела, как авантюристы и мореплаватели того внутреннего мира, который называется «человеческим», как измерители всего «высшего» и «превосходящего», который также называется «человеческим», — наступая всюду, почти без страха, ничем не пренебрегая, ничего не теряя, смакуя все, очищая все от случайного и, так сказать, просеивая его, — пока нам, свободным умам, наконец не было позволено сказать: «Вот — новая проблема! Вот длинная лестница, на ступенях которой мы сами сидели и поднимались, — мы сами когда-то были! Вот высший, Глубокий, под нами, невероятно длинный порядок, иерархия, которая мы видим: здесь — наша проблема! — —
Если ты не понимаешь что Ницше хочет, это означает, что ты ещё более глубокий кретин, чем Ницше в состоянии "пил мочу, ел говно". Потому что Ницше своих желаний не скрывает, более того, даже всю последнюю главу в "По ту сторону добра и зла" он озаглавил соответственно вышеозначенной проблеме Rangordnung.
Всё остальное - только детали для (раз)решения этой проблемы. (Даже ressentiment это не единственная фундаментальная причина, а экземпляр поведения, наряду с которым есть и другие (основанные не на аффекте ненависти, а на страхе, или лени, или вообще не на аффектах, а чувстве новизны или параноидальных образованиях (как у тиранов), и так далее). Ressentiment это всего лишь повод и пример для общей картины событий, которая по итогу способствует разрушению тяжело добытого (сам аристократ ("танцор на канате") есть нечто с трудом выведённое, и потому он подлежит сохранению, как существо знающее и способное: ближайший пример это уничтожение белых красными, и ухудшение системы образования в пост-царской России (например перевод Фукидида наилучший, до сих пор, - это дореволюционный, что намекает)).)
(И более-менее добротные книги по ницшеведению я уже выше упоминал, это хотя бы "The Barren Epistemology of Jacques Derrida", "Nietzsche an der Arbeit: Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren", и "Nietzsche, the Aristocratic Rebel". Дополнительно посоветовать могу только "Nietzsche contre Heidegger", разве что.)
С точки зрения философской проблема Ницше в том, что идеально руссоподобного равенстве нет, в природе и в бытии, и что проблема иерархии это проблема вечная, от которой зависит будущее в частности и жизнь людей в общем. Т.е. он даёт постановку фундаментальной проблемы, экуменической, этико-политической, общей для всей истории человечества.
>174554
Наша судьба властвует над нами, даже если мы еще этого не знаем; именно будущее дает нашему настоящему правило. Поскольку именно проблему иерархии мы, свободные умы, можем назвать своей проблемой: теперь, в полдень нашей жизни, мы впервые понимаем, какие приготовления, обходные пути, испытания, искушения, маскировки требовала эта проблема, прежде чем ей было позволено встать перед нами, и как нам сначала пришлось испытать самые разнообразные и противоречивые состояния лишений и счастья души и тела, как авантюристы и мореплаватели того внутреннего мира, который называется «человеческим», как измерители всего «высшего» и «превосходящего», который также называется «человеческим», — наступая всюду, почти без страха, ничем не пренебрегая, ничего не теряя, смакуя все, очищая все от случайного и, так сказать, просеивая его, — пока нам, свободным умам, наконец не было позволено сказать: «Вот — новая проблема! Вот длинная лестница, на ступенях которой мы сами сидели и поднимались, — мы сами когда-то были! Вот высший, Глубокий, под нами, невероятно длинный порядок, иерархия, которая мы видим: здесь — наша проблема! — —
Если ты не понимаешь что Ницше хочет, это означает, что ты ещё более глубокий кретин, чем Ницше в состоянии "пил мочу, ел говно". Потому что Ницше своих желаний не скрывает, более того, даже всю последнюю главу в "По ту сторону добра и зла" он озаглавил соответственно вышеозначенной проблеме Rangordnung.
Всё остальное - только детали для (раз)решения этой проблемы. (Даже ressentiment это не единственная фундаментальная причина, а экземпляр поведения, наряду с которым есть и другие (основанные не на аффекте ненависти, а на страхе, или лени, или вообще не на аффектах, а чувстве новизны или параноидальных образованиях (как у тиранов), и так далее). Ressentiment это всего лишь повод и пример для общей картины событий, которая по итогу способствует разрушению тяжело добытого (сам аристократ ("танцор на канате") есть нечто с трудом выведённое, и потому он подлежит сохранению, как существо знающее и способное: ближайший пример это уничтожение белых красными, и ухудшение системы образования в пост-царской России (например перевод Фукидида наилучший, до сих пор, - это дореволюционный, что намекает)).)
(И более-менее добротные книги по ницшеведению я уже выше упоминал, это хотя бы "The Barren Epistemology of Jacques Derrida", "Nietzsche an der Arbeit: Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren", и "Nietzsche, the Aristocratic Rebel". Дополнительно посоветовать могу только "Nietzsche contre Heidegger", разве что.)
С точки зрения философской проблема Ницше в том, что идеально руссоподобного равенстве нет, в природе и в бытии, и что проблема иерархии это проблема вечная, от которой зависит будущее в частности и жизнь людей в общем. Т.е. он даёт постановку фундаментальной проблемы, экуменической, этико-политической, общей для всей истории человечества.
>Боитесь ли вы смерти?
Боюсь страданий старости-умирания.
>после смерти окажется, что вы (ваше сознание/душа) продолжит существование?
Настолько маловероятно, что плюсы/минусы этого не рассматриваю.
>Если у вас есть прижизненная возможность улучшить свою посмертную участь, то сделали бы вы это?
Да, гарантировал бы себе кремацию.
Почему именно кремацию? Можно же попросить заморозить свое тело чтоб потом если изобретут воскрешение - жить и кайфовать дальше.
Чтобы не тратится на обслуживание могилы.
Замораживать дряхлый организм нет смысла, некому уже кайфовать. А если клонировать себя молодого, будет день сурка, только в разных обстоятельствах.
Так замораживают вообще труп. С надеждой на то, что потом разморозят лет через 100-300 и омолодят.
>Боитесь ли вы смерти?
Да, именно потому что это исчезновение навсегда и бьющееся в агонии эго мучает меня минимум раз в неделю (буквально сегодня ночью это было, но уснул до того как заплакал - на опыте, короче). Ещё больше, наверное, боюсь смерти близких, потому что истирается привычный мир (привет, Эго, ещё разок)
Потому распространять жизнь во все стороны, утверждать жизнь на всех планетах и в любых формах - ничего кроме жизни в качестве надежды на будущее у мира нет. Бессмертие невозможно, Бога и души нет - три эти слова (проработав) можно выкинуть из размышлений
> Clinically, a patient has 5 hours from the onset of a stroke before permanent brain damage sets in. After 5 hours the neural architecture has degraded to a point beyond repair.
Ну так это нынешняя медицина. Футурологи говорят что потом мб пофиксят.
Без проблем
>Настолько маловероятно
А на чем основана твоя оценка вероятности этого? Почему маловероятно это, а не обратное?
>>4575
>три эти слова (проработав)
Убедив себя в этом? А если окажется, что это не так, и что Бог есть, что душа есть? Не будет ли это большой ошибкой, не размышлять на эти темы, игнорировать это?
Чтобы достичь идеального, нужно обязательно пройти через не-идеальное (т.е. "золотое сечение" это просто оголтелый идеализм), а вот стремление к идеальному слишком часто даёт неидеальный результат (очевидное: "Надейся на лучшее и готовься к худшему").
πρόσϑε Πλάτων ὄπιϑέν τε Πλάτων μέσση τε Χίμαιρα.
Бог — это догадка: но кто мог бы вынести все муки этой догадки, не умерев? Разве веру творца отнять, а орла — парить в орлиных далях?
Бог — это мысль, которая делает все прямое кривым, а все стоящее — искривленным. Что? Время ушло бы, и все преходящее — просто ложь?
Думать об этом — кружение и головокружение для человеческих костей, и даже рвота для желудка: поистине, я называю это болезнью скручивания, предполагать такое.
Я называю это злом и человеконенавистничеством: все эти учения о Едином и Полном, и Недвижимом, и Насыщенном, и Непреходящем!
Все нетленное — это только притча! И поэты слишком много лгут. —
Но лучшие притчи должны говорить о времени и становлении: они должны быть хвалой и оправданием всякой преходящности!
Творение — это великое освобождение от страдания и облегчение жизни. Но для существования творца необходимы страдания и множество преобразований.
Да, в вашей жизни должно быть много горького умирания, вы, творцы! Поэтому вы — защитники и оправдатели всякой бренности.
Чтобы сам творец стал возрождающимся ребенком, он должен также желать быть матерью ребенка и матерью боли.
Поистине, я прошел через сотню душ и через сотню колыбелей и родовых мук. Я уже простился со многими душами; я знаю душераздирающие последние часы.
Но так хочет моя творческая воля, моя судьба. Или, если говорить вам честнее: такая судьба — моя воля, именно.
Все, что чувствует, страдает из-за меня и находится в тюрьме: но моя воля всегда приходит ко мне как мой освободитель и приносящий радость.
Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — так учит вас Заратустра.
Чтобы достичь идеального, нужно обязательно пройти через не-идеальное (т.е. "золотое сечение" это просто оголтелый идеализм), а вот стремление к идеальному слишком часто даёт неидеальный результат (очевидное: "Надейся на лучшее и готовься к худшему").
πρόσϑε Πλάτων ὄπιϑέν τε Πλάτων μέσση τε Χίμαιρα.
Бог — это догадка: но кто мог бы вынести все муки этой догадки, не умерев? Разве веру творца отнять, а орла — парить в орлиных далях?
Бог — это мысль, которая делает все прямое кривым, а все стоящее — искривленным. Что? Время ушло бы, и все преходящее — просто ложь?
Думать об этом — кружение и головокружение для человеческих костей, и даже рвота для желудка: поистине, я называю это болезнью скручивания, предполагать такое.
Я называю это злом и человеконенавистничеством: все эти учения о Едином и Полном, и Недвижимом, и Насыщенном, и Непреходящем!
Все нетленное — это только притча! И поэты слишком много лгут. —
Но лучшие притчи должны говорить о времени и становлении: они должны быть хвалой и оправданием всякой преходящности!
Творение — это великое освобождение от страдания и облегчение жизни. Но для существования творца необходимы страдания и множество преобразований.
Да, в вашей жизни должно быть много горького умирания, вы, творцы! Поэтому вы — защитники и оправдатели всякой бренности.
Чтобы сам творец стал возрождающимся ребенком, он должен также желать быть матерью ребенка и матерью боли.
Поистине, я прошел через сотню душ и через сотню колыбелей и родовых мук. Я уже простился со многими душами; я знаю душераздирающие последние часы.
Но так хочет моя творческая воля, моя судьба. Или, если говорить вам честнее: такая судьба — моя воля, именно.
Все, что чувствует, страдает из-за меня и находится в тюрьме: но моя воля всегда приходит ко мне как мой освободитель и приносящий радость.
Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — так учит вас Заратустра.
>vita somnialis
И всякий εἶδος, поскольку постольку о нём идёт речь и есть для этого означающие (Лакан), знаки (Соссюр), или иные (нейро-)семиотические десигнаторы, рассматривать можно только и только в рамках il n'y a pas hors de texte, а вне этого - ничего нет (т.е. диалектика ни на что не "указывает"), и следовательно, всякие разговоры о "втором смысле" (εἶδος-ах) есть предмет не логической дисциплины, а символического толкования, например, филологии или толкования сновидений (с учётом отбрасывания всех симулякров и объектов заведомо не существующих; т.е. εἶδος это просто артефакт нейробиологии/физиологического толкования, и не более чем некое иллюзорное восприятие или галлюцинаторные артефакты и/или атавизмы человеческого сознания).
(Следовательно, "синие занавески", якобы говорящие о "плохом настроении" есть просто символ ("притча"), говорящая только о том, кто говорит, а не о том, кто пишет.)
(Что в этико-политическом смысле есть вопрос легитимности/разумности подавления того или иного восстания и применения того или иного насилия (или неприменения его, замены насилия аргументацией ("духовной войной")), на основании вопроса о бытии, и целеполагания ("психического здоровья"). "Decadence", соответственно, есть decadence в смысле восстания против природы человека, против бытия, против истины, в конечном счёте, - против самого себя ("О мечтающих об ином мире", "О презирающих тело"). (Из чего следует, что Ницше, судя по его риторике, "ратует" за противостояние всем формам восстания, по своей природе ведущим к decadance или из decadance - происходящие.))
Как же ты заебал со своим Геннадием Малаховым!
>"пил мочу, ел говно". Потому что Ницше своих желаний не скрывает
Да не должно быть таких желаний.
Если ты не заебешь проблему иерархии (Rangordnung, order of rank) на "подлёте", то это эта проблема вгонит тебя и всё твоё потомство в могилу вплоть до бессмысленности всего происходящего, я гарантирую это.
Не путай эскапизм и познание.
Ты ни на один вопрос не ответил.
Основана на том, что созна(ва)ние, памятование, личность - очень убедительно выглядят как функции тушкомозга. Нет необходимости искать их где-то ещё.
>очень убедительно выглядят
Но это же не доказательство. У тебя нет гарантии, что ты максимально постиг суть этих вещей. Отсюда зазор неопределенности, который не дает просто отмахнуться от проблемы смерти.
>Нет необходимости искать их где-то ещё
Необходимости нет, но есть будущее, с которым каждый неизбежно столкнется. А если окажется, что уже поздно? Что же тогда?
 504 Кб, 888x665
504 Кб, 888x665Дионис как божество Господина ("сильнее, злее, глубже и прекраснее"; Za-II, "О возвышенных": не "герой", не "святой", не "гений", а "сверхгерой" (как минимум: "имморалист", "свободный дух", и "amor fati"; по формуле Ницше, ещё и "антихристианин")).
Формула: не "Дионис > Распятого", а восстание Диониса против Распятого. Противостояние как формула сопротивления насилию идущего со стороны христианина. В конечном счёте: защита Бытия против нигилистического стремления христиан уничтожить всё ради достижения "земного рая". (Что есть истинный рай? Счастье и отсутствие страдания. То есть, выполнение желания, другими словами: смерть. Дионис: логически выводя - бог Жизни ("царство земное, тысячелетнее царство Заратустры", "Заратустра" как наместник "земного царства", подобно Нимроду; Lebenstrieb), а не Смерти (Todestrieb). ("Бог умер, из-за сострадания своего к людям умер он."))
Допустимы ли в этой формуле христиане? Только в той мере, в которой они не делают Жизнь ("Ариадну") - безобразной...
>А если
Ты только что нью-эйдж...
Если ты планируешь игнорировать прошлые 2000 лет истории, тогда можно "если-кать" подобным образом и лучше пройти в /re (без негатива, просто это разные... как-то называется-то... подходы?..). Короче не знаю сможешь ли ты увидеть сам себя со стороны, но если увидишь то поймёшь, что это "если" это что такое? Не ну а если... Хуесли, йопта. В том смысле, что эти "если" нужно пройти: ты мыслишь и понимаешь, что вот тут да, не срабатывает, а ты же мыслишь не просто так, а чтобы понять что-то. Хорошая новость в том, что удовольствие и мышление идут рядом и "многие печали" от того, что мысль не дожата. Даже у страдания есть конкретная функция, это не значит плакать ночами и думать об РКН, это именно Смерть позади тебя. Ты оборачиваешься, ловишь её взгляд и она говорит: "Однажды я приду за тобой, так что делай уже что-нибудь"
И здесь нет очарованности эпистемологией, когда ты приходишь "ценность мысли в раскрытии её устройства". В первую очередь ценность мысли в соответствии действительности, той самой которая продолжает действовать даже когда ты закрыл глаза и заткнул уши. Хотя если подумать, то промах твоего захода двойной: пустой и не соответствующий
Бога нет. Души нет. Хуесли
>зазор неопределенности
Ну да, в зазоры (точнее даже не зазоры, а просто любые исследования, когда чего-то не знаешь) надо Бога пихать, отличный план. А ты докажи, что не Бог? Да вот в том-то и дело, что Бог твой испуганно убегает отовсюду, куда дотягивается исследовательское око. Из человека сбежал, из мира сбежал, из космоса сбежал. Куда ни глянь - отовсюду от смотался, получается
Как у Антонена Арто: Бог сбежал, оставив полицию за всеми следить
Извиняюсь за грубый тон и рваную мысль, надоели ньюэйджевцы: в интернете - грублю, в реале - бью, но вообще я добрый муху не обижу всех люблю
плаксивый анон >>4575
Кто знает, кто знает... Чудны дела твои Господи... Если... А если есть зазор... Загляни под камень и Я буду там... Где двое соберутся во Имя Моё и я средь них... Если душа есть, если Бог есть... Если...
Это не философия. Поэзия, может быть. Но к философскому рассуждению это отношения не имеет.
Ты пытаешься подороже себя продать и думаешь, что этого не видно. Словно если ты ошибся, значит ты плохой человек и все об этом узнают, будут показывать пальцем. Это скорее психологическая проблема, чем научная (тебе банально лень читать, потому ты и принёс на философский рынок только своё "если", на которое нет спроса)
Предполагая что наука отвечает за "землю", а философия за "небо": существование мира может быть оправдано лишь как эстетический феномен (а моральное - это установление особых ценностей, позволяющих эстетическому быть вообще как некому феномену, то есть это оценка всех ценностей, позволяющая сделать вывод, в Бытие ли они приводят (и тем самым делают бытие целесообразным/полным-"смысла" (мотивации)), или в Ничто; страдание при этом является лишь формой познания или мысли, позволяющей оценить целесообразность действий тех или иных, относительно уже поставленных целей (что вовсе не имеет отношения к перепостановке целей, а значит, изменению функции "страдать" на отличную от прежней; страдание не всегда ведёт в Ничто); жизнь всегда полна смысла, открытие новых смыслов есть процесс переориентирования в мышлении с Ничто на Бытие, что позволяет расширить формы власти до максимальных, позволяющих возможность задания многообразия сил, порождающих всё обширнее осмысляемое пространство видимости и целей (из чего следует что жизнь это процесс развития по существу раскрытия себя Бытием, в той или иной форме и смысле, - даже если этот "смысл" страдательный и печальный (отчего он ничуть не теряет в своей "эстетизации": тем самым жизнь всегда имеет "смысл"))).
Цель: чувство благодарности к жизни.
Предполагая что наука отвечает за "землю", а философия за "небо": существование мира может быть оправдано лишь как эстетический феномен (а моральное - это установление особых ценностей, позволяющих эстетическому быть вообще как некому феномену, то есть это оценка всех ценностей, позволяющая сделать вывод, в Бытие ли они приводят (и тем самым делают бытие целесообразным/полным-"смысла" (мотивации)), или в Ничто; страдание при этом является лишь формой познания или мысли, позволяющей оценить целесообразность действий тех или иных, относительно уже поставленных целей (что вовсе не имеет отношения к перепостановке целей, а значит, изменению функции "страдать" на отличную от прежней; страдание не всегда ведёт в Ничто); жизнь всегда полна смысла, открытие новых смыслов есть процесс переориентирования в мышлении с Ничто на Бытие, что позволяет расширить формы власти до максимальных, позволяющих возможность задания многообразия сил, порождающих всё обширнее осмысляемое пространство видимости и целей (из чего следует что жизнь это процесс развития по существу раскрытия себя Бытием, в той или иной форме и смысле, - даже если этот "смысл" страдательный и печальный (отчего он ничуть не теряет в своей "эстетизации": тем самым жизнь всегда имеет "смысл"))).
Цель: чувство благодарности к жизни.
Ялов зависит от твоей принадлежности к социуму/группе, и не более того.
И как можно в принципе распознать благополучие? Что благополучный человек радует наши чувства: что он вырезан из дерева, которое твердое, нежное и ароматное одновременно. Они наслаждаются только тем, что им полезно; их удовольствие, их восторг прекращаются, когда мера полезного превышена. Они предсказывают средства от травм, они используют плохие случайности себе на пользу; то, что не убивает их, делает их сильнее. Он инстинктивно собирает свою сумму из всего, что видит, слышит и переживает: он — принцип отбора, он многое пропускает. Он всегда в своей компании, будь то с книгами, людьми или пейзажами: он чтит, выбирая, позволяя, доверяя. Он медленно реагирует на все виды стимулов, с той медлительностью, которую в нем воспитали долгая осторожность и преднамеренная гордость, — он испытывает приближающийся стимул, он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он примиряется с собой и с другими, он умеет забывать — он достаточно силен, чтобы все устраивалось для него наилучшим образом. — Ну, я — противоположность декадентства: ведь я только что описывал себя.
>Дионис против Распятого: Распятый как Дух Тяжести и Насилия, Ничто собою впоследствии реализующий на земле.
>Дионис как божество Господина ("сильнее, злее, глубже и прекраснее"; Za-II, "О возвышенных": не "герой", не "святой", не "гений", а "сверхгерой" (как минимум: "имморалист", "свободный дух", и "amor fati"; по формуле Ницше, ещё и "антихристианин")).
>Формула: не "Дионис > Распятого", а восстание Диониса против Распятого. Противостояние как формула сопротивления насилию идущего со стороны христианина.
Не к чему доебаться.
Насколько это позволяет выбранный тобой понятийный аппарат, ты пересказал символ веры.
Расскажешь куда от тебя трансцендентная сущность убегает? Может тебе не в ph а в re тред саентизм?
Куда верующие придумают, туда и убегает. Бежит он давно и быстро, так что предположу, что у верующих ничего кроме сотворения мира и не осталось. Бедняжки... Ни чудесных исцелений, ни воскресения Христа (только сгнивший труп), ни души, ни рая, ничего
Апологет Афинагор Афинский (ок. 133–190)
> Бога не могут постичь ни зрение, ни слух, ни разум; только ум очищенный может, подобно молнии, коснуться Его, но не постичь.
Интересно почему христианин 2го века (как и любой другой) понимает что Бога не доказать в пространстве-времени а гений 21 века с опытом 2000 лет (который ты даже не читал) не понимает?
Жизнь у тебя одна поэтому советую послушать дядю Канта
> Я должен был упразднить знание, чтобы освободить место вере.
Знаний у тебя немного поэтому думаю тебе несложно будет
>>4631
>Афинагор Афинский
Ох, тут прям уважение. То есть твоя мысль заключается в том, что самые хитрые верующие сразу поняли, что Бога нет, когда увидели, что чудес не бывает, ничего не воскресло, а только сгнило и начали лепить отмазы уже тогда. В общем Бога нет и никогда не было, но как же сердцу приятно читать всякие приятные словечки, дёргать цитатки. А от знаний вообще одни беды
Прости, тред саентизма слишком крут для тебя, я поторопился. Тебе нужен тред верующих в теорию заговора
Почаще повторяй, а то такая ценная мысль у тебя, крутой двачерский ход, прям выставил собеседника глупым и все такие "Да он крут". Хотя верующим свойственно заколдовывать реальность и продавать подороже пустышки... Так что всё верно, ты хорошо исполняешь свою роль
>>4596 >>4600 >>4603
>>4614 >>4624 >>4635
Разные посты цитируешь. Тебе возражают разные аноны.
Мое мнение заключается в том, что ты дал не философский, но религиозный или поэтический ответ на вопрос. Тебе нужно поработать над аргументацией, если считаешь, что действуешь в поле философии. Дело не в глупости, отнюдь. Ты не глуп.
Как ответить человеку, который пишет пост уровня "если" и "освободи место вере"? Надо сначала за него дописать мысль до приличной и затем на неё отвечать? Но при этом именно эти чудики умудряются другого обвинять в нефилософскости, при этом слепому видно, что это такая подстраховка "Я первый сказал, что он не философ"
Самое смешное, это как человек думает, что не видно, мол буду серьёзный вид сохранять и никто не заметит
>Я первый сказал, что ты не философ, а значит победил
Это надо не один день опускаться, чтобы так закончить
>>4639
Ты не понял. Процитирую Ницше:
Вот эта недоступность (а ни о какой "доступности" и "коммуникации" здесь и речи нет и быть не может, - всякая "коммуникация" есть всегда порабощение Самости, всякие схожие люди понимают друг друга без слова и "коммуникации", даже без жестов) всегда "ressentiment" и вызывает, - особенно это вызывает и конкретный род жадности и массу других эмоций которые люди отрицают, лицемерно морализируя и прессуя друг друга в социальных ситуациях, даже сами того не осознавая.
У тебя ressentiment просто. Философу не свойственно.
Мне не нравится верующие пытаются протиснуться в любую щель, как на уровне "никогда не знаешь", так и на уровне "в падающем самолёте атеистов нет". Вот и всё. Назови это хоть ресентиментом, хоть пирожком, хоть трубой. Вся мысль заключалась в "Не, ну ты же не можешь тооочно знать". Потому и такой ответ
Про свойственно / не свойственно так скучно, что даже нет вдохновения отвечать - это какое-то болото из подмигиваний
И все таки. Давай философский ответ. Без рессентиментарных подмигиваний-паясничаний, как ты умеешь. Этим твоим весь тред уже полон.
ладно братик, смотри
сначала:
читаешь примерно 5 диалогов Платона
затем изучаешь законы логики Аристотеля, смотришь примерчики
поздравляю, теперь ты хотя бы как-то сможешь спорить
затем ты хочешь спорить о вере, супер
есть два вида критики: внешняя и внутренняя.
в случае веры внешняя критики ну это полная хуйня, которая за 2000 лет уже разобрана или сводится к аксиоматике, где всем на твое мнение пофигу.
для внутренней критики тебе необходимо взять Библию и читать ее, затем христианских философов, как минимум Августин Блаженный и Фома Аквинский. погружаешься в систему и находишь противоречия.
ну чтож как-то так, дерзай, после этого ты будешь способен хоть на какой-то философский спор если после всего этого тебе захочется спорить
ты же пытаешься с заднего дворя так сказать проскочить и получается у тебя обсер жеский, так не пойдет
>>4645
Ты, безумный и пафосный кретин, не понимаешь, что эта "цитата" есть суть опровержение существования Бога (она полагается на безбожие, это раз, и Ницше также отрицал Бога, это два). Как ты можешь её цитировать? Ты, блять, сумасшедший, а не философ.
(Если взаимопонимание между сущностями/Самостями не достижимо, то и никакого Единства быть не может, а значит, нет и Бога, недоумок! Просто пиздец (ещё и к логике, блять, апеллирует). Вакханалия в худшем смысле.)
Вот и все "верующие" такие же. Даром что священники не такие кретины как ты, а то была бы секта на секте и сектой погоняет, а не конфессии и соборы.
>никакого Единства быть не может, а значит, нет и Бога
Или "Бог" есть, но в этом случае он настолько неопределяемый, что любая попытка его определить является лишь указанием на какую-то психическую реальность, а не на реальное божество (или, как было сказано, "диалектика ни на что не указывает", тем более на "идеи", - это просто оптическая иллюзия и игра в слова). Соответственно, это уже не "Единое", а "Целое", что по своей природе вообще и совсем другое, но ни платоновское, ни аристотелевское, ни христианское, ни мусульманское, ни буддийское (будь то тхеравада, чань или ваджраяна), ни [подставьте религию] божество, потому что они в той или иной мере полагаются на концептуацию (концепт как сущность), а концептов, в схеме Ницше, нет (есть просто знаки, метафоры, формы, звуки, слова, символы, короче, "видимости", и ничего другого (этой точки зрения в Ницше требует филолог)). И сущность в ницшевской схеме предельного хаоса (воли к власти) это сущность в ситуации, одномоментная и преходящая (отсюда: вечное возвращение как онтическое и эпистемологическое основание).
И в такой схеме "Платон" всегда < "Ницше", т.к. из хаоса сущности сделать можно, а вот из сущностей - хаос - нет. Т.е. "Ницше" чисто аргументативно оказывается сильнее, и следовательно, более истиннее, более полезным для выживания (менее вводящим в заблуждение, будто бы, например, тираны одержимы Эросом, а не будто бы тираны не одержимы Эросом (иначе бы они всегда вели экспансию, но этого поведения тиран не обнаруживает почти никогда)).
это не я цитировал, иди мочи попей
> никакого Единства быть не может, а значит, нет и Бога
ого Ницше опровергает Бога через эмпирику чтоли? вот это гений
Если так, то это ещё хуже, чем ты себе это представляешь (т.е. ты вообще в вопросе не разбираешься (который он ставит), и ещё даёшь ему какие-то "советы" как индоктринированный олух). Удачи с такими "начинаниями".
>ого Ницше опровергает Бога через эмпирику чтоли? вот это гений
Если Бога надо доказывать, то это не Бог, а чепуха подкроватная, "гений".
фу софист, я нигде не сказал что Бога надо доказывать. я прямо сказал что Его невозможно доказать выше. ты мне приписываешь то чего я не говорил. однако твое утверждение строится как опровержение
> никакого Единства быть не может, а значит, нет и Бога
получается это ты пытаешься доказать несуществование, зная что это сделать невозможно. лицемер и софист
красава обосрался
— Не то чтобы мы не могли снова найти Бога, ни в истории, ни в природе, ни за природой, — но то, что мы воспринимаем почитаемое как Бога, не как «божественное», а как жалкое, как нелепое, как вредное, не только как заблуждение, но и как преступление против жизни... Мы отрицаем Бога как Бога... Если бы нам был доказан этот Бог христиан, мы бы верили в него еще меньше. — В формуле: deus, qualem Paulus creavit, dei negatio. — Религия, подобная христианству, которая ни в чем не соприкасается с реальностью, которая немедленно распадается, как только реальность приходит в себя хотя бы в одном пункте, по праву должна быть смертельным врагом «мудрости мира», то есть науки. Она одобрит все средства, которыми дисциплина духа, чистота и строгость в вопросах совести духа, благородное хладнокровие и свобода духа могут быть отравлены, оклеветаны и дискредитированы. «Вера» как императив — это вето против науки — на практике, лжи любой ценой... Павел понимал, что ложь — что «вера» была необходима; Церковь позже снова поняла Павла. — Тот «Бог», которого выдумал Павел, Бог, который «позорит мудрость мира» (в более узком смысле, двух великих противников всех суеверий, филологии и медицины), на самом деле является лишь собственным решительным решением Павла сделать это: назвать свою собственную волю «Богом» — Торой — это исконно еврейское. Павел хочет позорить «мудрость мира»: его враги — хорошие филологи и врачи александрийской подготовки — он ведет с ними войну. Действительно, нельзя быть филологом и врачом, не будучи также антихристом. Как филолог, человек смотрит за «святые книги», как врач — за физиологическую испорченность типичного христианина. Врач говорит «неизлечимо», филолог говорит «обман»...
— Не то чтобы мы не могли снова найти Бога, ни в истории, ни в природе, ни за природой, — но то, что мы воспринимаем почитаемое как Бога, не как «божественное», а как жалкое, как нелепое, как вредное, не только как заблуждение, но и как преступление против жизни... Мы отрицаем Бога как Бога... Если бы нам был доказан этот Бог христиан, мы бы верили в него еще меньше. — В формуле: deus, qualem Paulus creavit, dei negatio. — Религия, подобная христианству, которая ни в чем не соприкасается с реальностью, которая немедленно распадается, как только реальность приходит в себя хотя бы в одном пункте, по праву должна быть смертельным врагом «мудрости мира», то есть науки. Она одобрит все средства, которыми дисциплина духа, чистота и строгость в вопросах совести духа, благородное хладнокровие и свобода духа могут быть отравлены, оклеветаны и дискредитированы. «Вера» как императив — это вето против науки — на практике, лжи любой ценой... Павел понимал, что ложь — что «вера» была необходима; Церковь позже снова поняла Павла. — Тот «Бог», которого выдумал Павел, Бог, который «позорит мудрость мира» (в более узком смысле, двух великих противников всех суеверий, филологии и медицины), на самом деле является лишь собственным решительным решением Павла сделать это: назвать свою собственную волю «Богом» — Торой — это исконно еврейское. Павел хочет позорить «мудрость мира»: его враги — хорошие филологи и врачи александрийской подготовки — он ведет с ними войну. Действительно, нельзя быть филологом и врачом, не будучи также антихристом. Как филолог, человек смотрит за «святые книги», как врач — за физиологическую испорченность типичного христианина. Врач говорит «неизлечимо», филолог говорит «обман»...
Ты дурачок.
Во-первых, ты только что применил в отношении меня все те же приёмы, в которых обвиняешь меня самого, ты, лицемер и ханжа.
Во-вторых, ты не ухватываешь суть проблемы. Ты максимум можешь взять что-то из учебника, но не оперировать в этом пространстве (к учебникам ты и апеллируешь, прежде всего: например, "внутренняя критика" это всего лишь состояния сознания, - к "Богу" они не имеют никакого отношения, по содержанию).
Смысл с тобой вести беседу? Всё равно что орать на облака или на пень. И то, от такого действия больше полезного...
>софист
>как будто что-то плохое
Просто кретин, натуральный...
ты отвечаешь с перспективы своей системы в которую ты веришь, конечно в ней я кретин а все софисты, тут даже ответить нечего. это прикольно
помоги мне. я хочу отбросить через любые страдания свой ресентимент но меня одно у Ницше мучает и из-за этого не могу себя преодолеть. как быть с универсалиями и их объективным существованием? с этим фактом ведь не работает ничего
математика для каждого человека одинакова и два разных человека могут открыть одну и ту же истину независимо друг от друга. теоремы верны независимо от культуры, времени или «воли к власти». даже если человечество исчезнет, Пифагорова теорема сохранит свою истинность.
как вообще без универсалиев можно разговаривать? если два человека не знающие языка друг друга впервые встретятся и один из них постучит себе по голове разве не поймет второй что речь про дерево?
всю твою блять систему разрушает скромный E=mc2. это просто гроб на твоем мировозрении.
как наука предсказывает события, исходя из повторяемости законов природы? причинность бессмысленна без объективных универсалий, связывающих события.
это сообщение до тебя доходит не потому что кто-то придумал слово "фотон", а потому что мир структурирован объективными паттернами
Это называется "хохла спросить забыли". Нищий твой не сказал ничего нового, уникального или интересного. Ещё эта формулировка, что значит равны или не равны? В смысле по росту не равны или что?
Эгалитарные общества существовали и существуют кое-где до сих пор, это эмпирический факт. Чисто "по-природе" люди вообще антииерархичны в том смысле, что они объединяются чтобы убить "иерархов".
Но также эмпирический факт, что всякое цивилизованное общество является иерархичным. Обратных примеров не существует. Когда-то была опция уйти из цивилизации, сейчас такой опции нет.
>хохла забыть спросили
Вот это про тебя, уж про тебя. Забыли тебя спросить, сказал Ницше новое или нет, "хохол" ты поганый.
>>4655
Ну что ты опять такое болтаешь? Тебя послушать, моё сознание это предмет веры. И восприятие тоже. И обыденные ситуации это тоже "вера". Вот я скажу что на улице весна - это, дескать, вера. Где тогда вера? Вообще всё - вера. Но тогда нет и веры. Всё, "kaputt".
И споришь ты не с моей "системой" (это что вообще? слова про хаос тебе ничего не говорят? какая ещё такая система в хаосе?), а со своей, в твоём же сознании существующей. Проекции и соломенные пугала. Зачем ты на них каркаешь, я не понимаю. (И законы физики никак не противоречат по крайней мере ницшевской, как ты сказал, "системе". Есть необходимости. Есть власть. Есть латентная власть. Есть организованная. Есть обыденные ситуации. Есть непреднамеренности. Есть ещё куча вещей, абсолютно никак к "вере" не относящаяся, и если относящаяся, то только по причине тех или иных эпистемологических позиций и пресуппозиций (что и есть предмет критики для Ницше). Так что, перед тем, как критиковать, очерти предмет критики, а не нападай до выяснения деталей.)
Вы предмет критики не осилили, и с чем-то спорить пытаетесь. Снова мимо, снова невпопад.
Под выпадами в личный адрес и рессентиментарными причитаниями не замечаю собственно философской аргументации. Где она? Все ницшеанцы такие? Не все, иначе не было бы [лень дальше объяснять тебе что-либо].
Эпистемология ницшеанства:
«Человек сам себе закон» («мне так нравится», «мне так показалось», «мне так комфортнее»).
чо-то ты завертелся как ужик. физика была аргументом к объективности универсалий. хочешь сказать их объективное существование не дискредитирует "систему" Ницше?
> И споришь ты не с моей "системой"
> слова про хаос тебе ничего не говорят?
именно с твоим хаосом я и спорю аргументируя существование порядка
 413 Кб, 604x377
413 Кб, 604x377>Вот это про тебя, уж про тебя. Забыли тебя спросить, сказал Ницше новое или нет, "хохол" ты поганый.
Я тебе сообщаю эмпирический факт. Нищий писал хуйню, необоснованный бред, не соответствующий реальности. Ничего нового, актуального или интересного он не написал. Это пустышка, пафосная обёртка, а внутри нихуя. А ты просто-напросто малетний дебил, школьник и инфантил, который в силу собственной интеллектуальной незрелости ведётся на всю эту хуйню. Чисто пикрелейтед.
Исследовать семиотические свойства мочи - это верх познавательных способностей Ницше.
>>4659
>>4660
>это бессмысленное общение с людьми "великой тоски", обречёнными на тонкого рода рабство внутри закрытой системы под названием "Российская Федерация", пытающимися найти спасение в "Боге" или ином идеальном мире, принимая артефакты сознания и атавизмы эволюции, либо феномены функционирования психики за антропоморфизируемые, не всегда материальные, объекты и действительности, существующие "an sich", будто бы доступные посредством диалектических высказываний
Zarathustra selber aber, betäubt und fremd, erhob sich von seinem Sitze, sah um sich, stand staunend da, fragte sein Herz, besann sich und war allein. „Was hörte ich doch? sprach er endlich langsam, was geschah mir eben?“
Und schon kam ihm die Erinnerung, und er begriff mit Einem Blicke Alles, was zwischen Gestern und Heute sich begeben hatte. „Hier ist ja der Stein, sprach er und strich sich den Bart, auf dem sass ich gestern am Morgen; und hier trat der Wahrsager zu mir, und hier hörte ich zuerst den Schrei, den ich eben hörte, den grossen Nothschrei.
Oh ihr höheren Menschen, von eurer Noth war’s ja, dass gestern am Morgen jener alte Wahrsager mir wahrsagte, —
— zu eurer Noth wollte er mich verführen und versuchen: oh Zarathustra, sprach er zu mir, ich komme, dass ich dich zu deiner letzten Sünde verführe.
Zu meiner letzten Sünde? rief Zarathustra und lachte zornig über sein eigenes Wort: was blieb mir doch aufgespart als meine letzte Sünde?“
— Und noch ein Mal versank Zarathustra in sich und setzte sich wieder auf den grossen Stein nieder und sann nach. Plötzlich sprang er empor, —
„Mitleiden! Das Mitleiden mit dem höheren Menschen! schrie er auf, und sein Antlitz verwandelte sich in Erz. Wohlan! Das — hatte seine Zeit!
Mein Leid und mein Mitleiden — was liegt daran! Trachte ich denn nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!
Wohlan! Der Löwe kam, meine Kinder sind nahe, Zarathustra ward reif, meine Stunde kam: —
Diess ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du grosser Mittag!“ — —
Also sprach Zarathustra und verliess seine Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt.
[ Das Ende dieses erbärmlichen Unsinns. ]
>>4659
>>4660
>это бессмысленное общение с людьми "великой тоски", обречёнными на тонкого рода рабство внутри закрытой системы под названием "Российская Федерация", пытающимися найти спасение в "Боге" или ином идеальном мире, принимая артефакты сознания и атавизмы эволюции, либо феномены функционирования психики за антропоморфизируемые, не всегда материальные, объекты и действительности, существующие "an sich", будто бы доступные посредством диалектических высказываний
Zarathustra selber aber, betäubt und fremd, erhob sich von seinem Sitze, sah um sich, stand staunend da, fragte sein Herz, besann sich und war allein. „Was hörte ich doch? sprach er endlich langsam, was geschah mir eben?“
Und schon kam ihm die Erinnerung, und er begriff mit Einem Blicke Alles, was zwischen Gestern und Heute sich begeben hatte. „Hier ist ja der Stein, sprach er und strich sich den Bart, auf dem sass ich gestern am Morgen; und hier trat der Wahrsager zu mir, und hier hörte ich zuerst den Schrei, den ich eben hörte, den grossen Nothschrei.
Oh ihr höheren Menschen, von eurer Noth war’s ja, dass gestern am Morgen jener alte Wahrsager mir wahrsagte, —
— zu eurer Noth wollte er mich verführen und versuchen: oh Zarathustra, sprach er zu mir, ich komme, dass ich dich zu deiner letzten Sünde verführe.
Zu meiner letzten Sünde? rief Zarathustra und lachte zornig über sein eigenes Wort: was blieb mir doch aufgespart als meine letzte Sünde?“
— Und noch ein Mal versank Zarathustra in sich und setzte sich wieder auf den grossen Stein nieder und sann nach. Plötzlich sprang er empor, —
„Mitleiden! Das Mitleiden mit dem höheren Menschen! schrie er auf, und sein Antlitz verwandelte sich in Erz. Wohlan! Das — hatte seine Zeit!
Mein Leid und mein Mitleiden — was liegt daran! Trachte ich denn nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!
Wohlan! Der Löwe kam, meine Kinder sind nahe, Zarathustra ward reif, meine Stunde kam: —
Diess ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du grosser Mittag!“ — —
Also sprach Zarathustra und verliess seine Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt.
[ Das Ende dieses erbärmlichen Unsinns. ]
>an sich
это ты сам придумал, врунишка. я не говорил сами по себе.
в вещах чем тебя не устраивают универсалии?
>>4664
>>4666
>>4667
>>4671
— Давайте сравним различные способы, которыми мы (— я говорю «мы» только из вежливости…) подходим к проблеме ошибки и видимости. Раньше изменение, трансформация и становление вообще принимались за доказательство видимости, как знаки того, что должно быть что-то, что вводит нас в заблуждение. Сегодня, наоборот, мы видим себя, в той мере, в какой предрассудок разума заставляет нас постулировать единство, тождество, длительность, субстанцию, причину, материальность и бытие, запутанными в ошибке, вынужденными к ошибке; как бы мы ни были уверены на основе строгого расчета, что здесь есть ошибка. Здесь ситуация не отличается от движения больших звезд: у них у ошибки есть наши глаза, здесь у нее есть наш язык в качестве ее постоянного защитника. Язык, по своему происхождению, принадлежит к периоду самой рудиментарной формы психологии: мы вступаем в грубое фетишистское состояние, когда осознаем основные предпосылки лингвистической метафизики, иными словами, разума. Он видит деятеля и действие повсюду: он верит в волю как причину вообще; он верит в «я», в «я» как бытие, в «я» как субстанцию и проецирует веру в «я»-субстанцию на все вещи — только тем самым он создает понятие «вещи»... Бытие везде мыслится, подставляется как причина; из понятия «я» следует понятие «бытие» как производное... Вначале есть великое заблуждение ошибки: что воля есть нечто, что действует, что воля есть способность... Сегодня мы знаем, что это всего лишь слово... Гораздо позже, в мире в тысячу раз более просвещенном, уверенность, субъективная уверенность в обращении с категориями разума привлекла внимание философов с удивлением: они пришли к выводу, что они не могли возникнуть из эмпиризма, — в конце концов, всякий эмпиризм противоречит им. Откуда же они тогда берутся? — И в Индии, и в Греции была допущена та же ошибка: «Мы, должно быть, когда-то были дома в высшем мире (а не в гораздо более низшем: что было бы правдой!), мы, должно быть, были божественными, ибо у нас есть разум!»… В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной убедительной силы, чем заблуждение бытия, как его формулировали, например, элеаты: каждое слово у него для себя, каждое предложение для себя, которое мы произносим! — Даже противники элеатов все еще поддавались соблазну их концепции бытия: Демокрит, среди прочих, когда он изобрел свой атом… «Разум» в языке: о, какая старая, лживая женщина! Я боюсь, что мы не избавимся от ["]Бога["], потому что мы все еще верим в грамматику…
>>4664
>>4666
>>4667
>>4671
— Давайте сравним различные способы, которыми мы (— я говорю «мы» только из вежливости…) подходим к проблеме ошибки и видимости. Раньше изменение, трансформация и становление вообще принимались за доказательство видимости, как знаки того, что должно быть что-то, что вводит нас в заблуждение. Сегодня, наоборот, мы видим себя, в той мере, в какой предрассудок разума заставляет нас постулировать единство, тождество, длительность, субстанцию, причину, материальность и бытие, запутанными в ошибке, вынужденными к ошибке; как бы мы ни были уверены на основе строгого расчета, что здесь есть ошибка. Здесь ситуация не отличается от движения больших звезд: у них у ошибки есть наши глаза, здесь у нее есть наш язык в качестве ее постоянного защитника. Язык, по своему происхождению, принадлежит к периоду самой рудиментарной формы психологии: мы вступаем в грубое фетишистское состояние, когда осознаем основные предпосылки лингвистической метафизики, иными словами, разума. Он видит деятеля и действие повсюду: он верит в волю как причину вообще; он верит в «я», в «я» как бытие, в «я» как субстанцию и проецирует веру в «я»-субстанцию на все вещи — только тем самым он создает понятие «вещи»... Бытие везде мыслится, подставляется как причина; из понятия «я» следует понятие «бытие» как производное... Вначале есть великое заблуждение ошибки: что воля есть нечто, что действует, что воля есть способность... Сегодня мы знаем, что это всего лишь слово... Гораздо позже, в мире в тысячу раз более просвещенном, уверенность, субъективная уверенность в обращении с категориями разума привлекла внимание философов с удивлением: они пришли к выводу, что они не могли возникнуть из эмпиризма, — в конце концов, всякий эмпиризм противоречит им. Откуда же они тогда берутся? — И в Индии, и в Греции была допущена та же ошибка: «Мы, должно быть, когда-то были дома в высшем мире (а не в гораздо более низшем: что было бы правдой!), мы, должно быть, были божественными, ибо у нас есть разум!»… В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной убедительной силы, чем заблуждение бытия, как его формулировали, например, элеаты: каждое слово у него для себя, каждое предложение для себя, которое мы произносим! — Даже противники элеатов все еще поддавались соблазну их концепции бытия: Демокрит, среди прочих, когда он изобрел свой атом… «Разум» в языке: о, какая старая, лживая женщина! Я боюсь, что мы не избавимся от ["]Бога["], потому что мы все еще верим в грамматику…
1. Графоман.
2. Не умеет нормально выражать мысли.
3. Его слишком много в треде. Было бы неплохо переселить его в отдельный тред, чтобы не засорять обсуждения итт.
4. Чувствительный и ранимый, отсюда его перепалки с каждым, кто, высказываясь, не поддакивает и не восхищается его "талантом", "глубиной" его мыслей.
>Чувствительный и ранимый
С этого посмеялся, спасибо (и это в треде-то философии, самой наисложнейшей, из всех существующих, дисциплины, которая требует как раз максимальной точности суждения... впрочем, это ясно, такие дуболомы как ты и с машинами (техникой) обходятся так же: разворотят коробку и фередо к ебанной матери, и пиздец после этого ещё и движку наводят (кретины, блять))
(Рекомендую тебе на СВО записаться, нечувствительный ты наш)
а как с машинами - так и с женщинами...
Очень потужная графомания на тему платоновской пещеры. И я не понимаю, как вообще можно проинтерпретировать этот текст, если не знать про то, на что он ссылается. Это я вот метал слушаю, и там чем больше гротескных техник гитарист в своё соло нахуячил - тем лучше.
Но под пафосным, высокохудожественным текстом скрывается банальная отсылка - платоновская пещера.
>Раньше изменение, трансформация и становление вообще принимались за доказательство видимости, как знаки того, что должно быть что-то, что вводит нас в заблуждение.
Окей, я часто слышу очень странные интерпретации "пещеры" в публичном поле, многие люди даже этого не понимают. Но делает ли это честь Ницше? Нет, не делает.
>Я боюсь, что мы не избавимся от ["]Бога["], потому что мы все еще верим в грамматику…
Исторически было ровно наоборот, если мы говорим про Платона и христианство.
>самой наисложнейшей, из всех существующих, дисциплины, которая требует как раз максимальной точности суждения...
Даже у наивеличайшего вилософа Ницше ахи и охи вместо строгого вывода, так что некуда указать на ошибку. И ничего, проходит. Видимо, требуется не точность, а отвлеченность, забористость суждения, заковыристость языка...
 821 Кб, 736x746
821 Кб, 736x746Требуется вызвать эмоции у малдеба, чтобы он в сердцах воскликнул "Ох, как по-философски!".
 132 Кб, 1439x685
132 Кб, 1439x685В какой-то момент наступает немножко грустный, но всё равно позитивный (может трагичный, но в таком устремлённом вперёд смысле, не знаю) момент, когда прям начинаешь хорошо видеть, у кого мысль в порядке, а у кого нет. Даже поражаюсь тому, как ницшевед умудряется находить вдохновение писать вновь, видимо придётся всецело признать именно за ним философский дух. Вдохновение раз за разом писать тем, кто позади и кто теряют рассудок в любой некомфортной ситуации, сводя субъектность к парочке корявых функций
Именно у ницшеведа мысль, на уровне ощущений переходящая в целое пространство, как если бы мы могли войти в сообщение, начать там осматриваться (буквально крутить головой), выбрать наиболее интересное место и усесться там на некоторое время. Слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, с середины в любую сторону, хотя самое главное - это привязка к тому, что действительно есть, тяжёлая работа по актуализации им всецело выполнена
И вот тут как было у Пелевина:
>...Представьте себе идущего по улице Эйнштейна, который одновременно размышляет об общей теории поля, обдумывает устройство атомной бомбы и мысленно играет на старенькой скрипке. И вдруг перед ним непонятно откуда появляется дышащий перегаром казак в наброшенной на плечи медвежьей шкуре, складывает немытые пальцы в русское подобие фингера — так называемый — „кукис“, — подносит его к лицу ученого и говорит: „На-кось, жидовская морда, выкуси!“ Вполне вероятно, что Эйнштейн, несмотря на феноменальные способности своего мозга, не только перестал бы думать об отвлеченных физических проблемах, но побледнел бы, покачнулся и потерял равновесие
Только ницшевед не пелевинский Эйнштейн и равновесие не теряет, вот в чём дело
И что ещё правильно - это продолжение такой вот просветительской работы, при этом на равных. Очень терпеливое дело, у меня много раз уже мелькало "Да пошли ты их на хуй", но нет достоинства в том, чтобы уходить. Не только в этом треде, надо прийти в дом каждому анону и долбить его там
Прям вдохновляет, да. Тоже хочется дойти до уровня, когда мысль вот так вот может цвести. Как же это унизительно, когда из-за тряски приходится судорожно выдёргивать что-то знакомое, переделывать под себя, мгновенно теряя вообще всё сообщение, смазывая это сверху "ты ранимый" и прочим. Когда сидишь в этой клетке, вроде норм, ты самый умный и выжил, а вот со стороны - это прям агония. Надо продолжать делать это и выгонять из головы мысли по типу "зря, впустую, беcnолку" - сам никогда не знаешь, где положительно повлиял (не все же тебя будут благодарные письма слать, да и не всегда ясна роль конкретного человека, ведь это уходит в среду)
В общем это надо именно прочувствовать и не каждому дано, тут надо держать в голове историю субъекта, в смысле историчность субъекта и надо пройти большой путь, чтобы не надувать экспертные щёки, а действительно философствовать (в ином случае это навсегда останется лишь выплатой процентов по кредиту Большому Другому, за то что позволяет жить дальше. Потому и ответы не то, не туда, не поняв, лишь бы было)
 132 Кб, 1439x685
132 Кб, 1439x685В какой-то момент наступает немножко грустный, но всё равно позитивный (может трагичный, но в таком устремлённом вперёд смысле, не знаю) момент, когда прям начинаешь хорошо видеть, у кого мысль в порядке, а у кого нет. Даже поражаюсь тому, как ницшевед умудряется находить вдохновение писать вновь, видимо придётся всецело признать именно за ним философский дух. Вдохновение раз за разом писать тем, кто позади и кто теряют рассудок в любой некомфортной ситуации, сводя субъектность к парочке корявых функций
Именно у ницшеведа мысль, на уровне ощущений переходящая в целое пространство, как если бы мы могли войти в сообщение, начать там осматриваться (буквально крутить головой), выбрать наиболее интересное место и усесться там на некоторое время. Слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, с середины в любую сторону, хотя самое главное - это привязка к тому, что действительно есть, тяжёлая работа по актуализации им всецело выполнена
И вот тут как было у Пелевина:
>...Представьте себе идущего по улице Эйнштейна, который одновременно размышляет об общей теории поля, обдумывает устройство атомной бомбы и мысленно играет на старенькой скрипке. И вдруг перед ним непонятно откуда появляется дышащий перегаром казак в наброшенной на плечи медвежьей шкуре, складывает немытые пальцы в русское подобие фингера — так называемый — „кукис“, — подносит его к лицу ученого и говорит: „На-кось, жидовская морда, выкуси!“ Вполне вероятно, что Эйнштейн, несмотря на феноменальные способности своего мозга, не только перестал бы думать об отвлеченных физических проблемах, но побледнел бы, покачнулся и потерял равновесие
Только ницшевед не пелевинский Эйнштейн и равновесие не теряет, вот в чём дело
И что ещё правильно - это продолжение такой вот просветительской работы, при этом на равных. Очень терпеливое дело, у меня много раз уже мелькало "Да пошли ты их на хуй", но нет достоинства в том, чтобы уходить. Не только в этом треде, надо прийти в дом каждому анону и долбить его там
Прям вдохновляет, да. Тоже хочется дойти до уровня, когда мысль вот так вот может цвести. Как же это унизительно, когда из-за тряски приходится судорожно выдёргивать что-то знакомое, переделывать под себя, мгновенно теряя вообще всё сообщение, смазывая это сверху "ты ранимый" и прочим. Когда сидишь в этой клетке, вроде норм, ты самый умный и выжил, а вот со стороны - это прям агония. Надо продолжать делать это и выгонять из головы мысли по типу "зря, впустую, беcnолку" - сам никогда не знаешь, где положительно повлиял (не все же тебя будут благодарные письма слать, да и не всегда ясна роль конкретного человека, ведь это уходит в среду)
В общем это надо именно прочувствовать и не каждому дано, тут надо держать в голове историю субъекта, в смысле историчность субъекта и надо пройти большой путь, чтобы не надувать экспертные щёки, а действительно философствовать (в ином случае это навсегда останется лишь выплатой процентов по кредиту Большому Другому, за то что позволяет жить дальше. Потому и ответы не то, не туда, не поняв, лишь бы было)
животные ошибаются когда отличают съедобное от несъедобного? горячее от холодного? так в какой момент происходит заблуждение? у животных нет языка, но они уже способны выделять категории.
все хуйня давай по новой.
Господи, какая же хуйня! Сравнил жопу с пальцем, тоже мне Эйнштейн нашёлся. Ницше - это пустышка, самое больше его достижение - это нассать в сапог и выпить.
> такой вот просветительской работы
Ага, просветительская работа уровня Геннадий Малахов.
>у животных нет языка
>лай собаки
. . .
>все хуйня давай по новой.
это ты к себе это жало обрати, скорпион ты начинающий
(у животных нет манеры говорить правду чтобы лгать, но у них есть поведение, направленное на сокрытие истины (и это не берём в расчёт более сложные разновидности))
>>4686
>нет манеры говорить правду чтобы лгать
т.е. как "знаменитое" ...The simulacrum is never that which conceals the truth—it is the truth which conceals that there is none. The simulacrum is true.
(а вообще, против такой глупой, неосведомлённой аргументации надо просто нейрошизу подключать и не заморачиваться с ответами...)
 40 Кб, 180x209
40 Кб, 180x209Потому он вам и недоступен, потому что вы даже до уровня нейрошиза не дотягиваете.
Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете.
Попытки же меня "атаковать" равносильны призванию пикрила с целью меня убить (как убили и нейрошиза)... Wohlan! Могу только попросить вас в этом усердствовать поболее, и почаще стрелять себе в ногу. Быть может вы тогда себя в хитросплетениях платонического и загубите, как это, впрочем, с людьми до сих пор и бывало...
«Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое звезда?» — так спрашивает последний человек, моргая.
Земля стала маленькой, и на ней скачет последний человек, который делает все маленьким. Его род неистребим, как земляной червь; последний человек живет дольше всех.
«Мы изобрели счастье», — говорят последние люди, моргая.
Они покинули края, где жизнь была тяжелой: ибо нужно тепло. Человек все еще любит своего ближнего и поддерживает его своим плечом: ибо нужно тепло.
Болезнь и подозрительность считаются у них греховными: человек ходит осторожно. Глупец, который все еще спотыкается о камни или людей!
Немного яда время от времени: это создает приятные сны. И много яда, наконец, для приятной смерти.
Человек все еще работает, ибо работа — это развлечение. Но он заботится, чтобы развлечение не стало противным.
Человек больше не становится ни богатым, ни бедным: и то, и другое слишком обременительно. Кто еще хочет править? Кто еще хочет подчиняться? И то, и другое слишком обременительно.
Нет пастыря, а одно стадо! Все хотят одного и того же, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
«Когда-то весь мир был безумен», — говорят последние люди, моргая.
Каждый умён и знает все, что было: поэтому нет конца насмешкам. Люди все еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это портит желудок.
У человека есть свое маленькое удовольствие на день и свое маленькое удовольствие на ночь: но он дорожит своим здоровьем.
«Мы изобрели счастье», — говорят последние представители человечества и бессмысленно моргают.
 40 Кб, 180x209
40 Кб, 180x209Потому он вам и недоступен, потому что вы даже до уровня нейрошиза не дотягиваете.
Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете.
Попытки же меня "атаковать" равносильны призванию пикрила с целью меня убить (как убили и нейрошиза)... Wohlan! Могу только попросить вас в этом усердствовать поболее, и почаще стрелять себе в ногу. Быть может вы тогда себя в хитросплетениях платонического и загубите, как это, впрочем, с людьми до сих пор и бывало...
«Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое звезда?» — так спрашивает последний человек, моргая.
Земля стала маленькой, и на ней скачет последний человек, который делает все маленьким. Его род неистребим, как земляной червь; последний человек живет дольше всех.
«Мы изобрели счастье», — говорят последние люди, моргая.
Они покинули края, где жизнь была тяжелой: ибо нужно тепло. Человек все еще любит своего ближнего и поддерживает его своим плечом: ибо нужно тепло.
Болезнь и подозрительность считаются у них греховными: человек ходит осторожно. Глупец, который все еще спотыкается о камни или людей!
Немного яда время от времени: это создает приятные сны. И много яда, наконец, для приятной смерти.
Человек все еще работает, ибо работа — это развлечение. Но он заботится, чтобы развлечение не стало противным.
Человек больше не становится ни богатым, ни бедным: и то, и другое слишком обременительно. Кто еще хочет править? Кто еще хочет подчиняться? И то, и другое слишком обременительно.
Нет пастыря, а одно стадо! Все хотят одного и того же, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
«Когда-то весь мир был безумен», — говорят последние люди, моргая.
Каждый умён и знает все, что было: поэтому нет конца насмешкам. Люди все еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это портит желудок.
У человека есть свое маленькое удовольствие на день и свое маленькое удовольствие на ночь: но он дорожит своим здоровьем.
«Мы изобрели счастье», — говорят последние представители человечества и бессмысленно моргают.
>земляной червь
(вообще должно быть - земляная блоха, но так даже лучше, в смысле: Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это умно [см. про "ум" (т.е. «Разум» в языке/философии, "Упомянутый выше consensus sapientium – я понимал это все яснее – менее всего доказывает их правоту в том, в чем они совпадали: он доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие, кое в чем совпадали физиологически..."): GD, Anti-Darwin]. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали: смирение.)
— Все вещи крещены в источнике вечности и по ту сторону добра и зла; а добро и зло суть только бегущие тени, влажная печаль, ползущие облака. — ["Мы с тобой оба – вне добра и вне зла, и не творим ни того, ни другого. По ту сторону добра и зла обрели мы остров свой и зеленый луг – мы вдвоем, только я и ты! Поэтому должны мы жить в мире и согласии!"]
или, другими словами: все суждения о истине и лжи покоятся на структуре и организации суждений, о которых мы не можем сказать, истинны они, или ложны (потому что это бы означало неустранимую круговую зависимость), - на суждениях ни злых, ни добрых, ни хороших, ни плохих ("В лучшие времена Рима сострадание, например, не называлось ни добрым, ни злым, ни нравственным, ни безнравственным; и если даже подобный поступок удостаивался похвалы, то с этой похвалой, однако, прекрасно уживалось нечто вроде невольного презрения, именно, при сравнении его с каким-нибудь таким поступком, который споспешествовал благу целого, или rei publicae."), по ту сторону добра и зла, по ту сторону истинности и ложности ("Об истине и лжи во вненравственном смысле").
Следовательно, разум - это инстинкт, и следовательно,
— Denn so lange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinkt. —
и весь мир, пускай "интеллигибельно" понимаемый, есть der Wille zur Macht (практически: между совокупностями суждений, которые "строят мир" ("богами", модусами), — ни истинными, ни ложными, но могущими быть (в т.ч. проверенными на [философскую] валидность)), — и ничего кроме этого...
(Из чего логически следует, что интеллект, ум, мудрость есть свойство характеризации бытия как совокупности отношений власти. И все иные отношения, будучи даже рассмотренными ("прочитанными"), есть те, которые уменьшают интеллект, т.к. они уменьшают, у субъекта и/или объекта, - совокупную власть.)
[ — Антисемит совсем не будет оттого приличнее, что он лжёт по принципу. Священники, которые в таких вещах тоньше и очень хорошо понимают возражение, лежащее в понятии убеждения, т. е. обоснованной, ввиду известных целей, лжи, позаимствовали от евреев благоразумие, подставивши сюда понятие “Бог”, “воля Божья”, “откровение Божье”. Кант со своим категорическим императивом был на том же пути: в этом пункте его разум сделался практическим. - Есть вопросы, в которых человеку не предоставлено решение отосительно истинности их или неистинности: все высшие вопросы, все высшие проблемы ценностей находятся по ту сторону человеческого разума... Коснуться границ разума - вот это прежде всего и есть философия... Для чего дал Бог человеку откровение? Разве Бог сделал что-нибудь лишнее? Человек не может знать сам собою, что есть добро и что зло, поэтому научил его Бог своей воле... Мораль: священник не лжёт, - в тех вещах, о которых говорят священники, нет вопросов об “истинном и ложном”, эти вещи совсем не позволяют лгать. Ибо, чтобы лгать, нужно быть в состоянии решать, что здесь истинно. Но этого как раз человек не может; священник здесь только рупор Бога. Такой жреческий силлогизм не является только еврейским или христианским: право на ложь и на благоразумие “откровения” принадлежит жрецу в его типе, будь то жрецы decadence или жрецы язычества. (Язычники - это все те из относящихся к жизни положительно, для которых Бог служит выражением великого Да по отношению ко всем вещам.) - “Закон”, “воля Божья”, “священная книга”, “боговдохновение” - всё это только слова для обозначения условий, при которых жрец идёт к власти, которыми он поддерживает свою власть - эти понятия лежат в основании всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства. “Святая ложь” обща Конфуцию, книге законов Ману, Магомету, христианской церкви; в ней нет недостатка и у Платона. “Истина здесь” - эти слова, где бы они ни слышались, означают: жрец лжёт. — ]
— Все вещи крещены в источнике вечности и по ту сторону добра и зла; а добро и зло суть только бегущие тени, влажная печаль, ползущие облака. — ["Мы с тобой оба – вне добра и вне зла, и не творим ни того, ни другого. По ту сторону добра и зла обрели мы остров свой и зеленый луг – мы вдвоем, только я и ты! Поэтому должны мы жить в мире и согласии!"]
или, другими словами: все суждения о истине и лжи покоятся на структуре и организации суждений, о которых мы не можем сказать, истинны они, или ложны (потому что это бы означало неустранимую круговую зависимость), - на суждениях ни злых, ни добрых, ни хороших, ни плохих ("В лучшие времена Рима сострадание, например, не называлось ни добрым, ни злым, ни нравственным, ни безнравственным; и если даже подобный поступок удостаивался похвалы, то с этой похвалой, однако, прекрасно уживалось нечто вроде невольного презрения, именно, при сравнении его с каким-нибудь таким поступком, который споспешествовал благу целого, или rei publicae."), по ту сторону добра и зла, по ту сторону истинности и ложности ("Об истине и лжи во вненравственном смысле").
Следовательно, разум - это инстинкт, и следовательно,
— Denn so lange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinkt. —
и весь мир, пускай "интеллигибельно" понимаемый, есть der Wille zur Macht (практически: между совокупностями суждений, которые "строят мир" ("богами", модусами), — ни истинными, ни ложными, но могущими быть (в т.ч. проверенными на [философскую] валидность)), — и ничего кроме этого...
(Из чего логически следует, что интеллект, ум, мудрость есть свойство характеризации бытия как совокупности отношений власти. И все иные отношения, будучи даже рассмотренными ("прочитанными"), есть те, которые уменьшают интеллект, т.к. они уменьшают, у субъекта и/или объекта, - совокупную власть.)
[ — Антисемит совсем не будет оттого приличнее, что он лжёт по принципу. Священники, которые в таких вещах тоньше и очень хорошо понимают возражение, лежащее в понятии убеждения, т. е. обоснованной, ввиду известных целей, лжи, позаимствовали от евреев благоразумие, подставивши сюда понятие “Бог”, “воля Божья”, “откровение Божье”. Кант со своим категорическим императивом был на том же пути: в этом пункте его разум сделался практическим. - Есть вопросы, в которых человеку не предоставлено решение отосительно истинности их или неистинности: все высшие вопросы, все высшие проблемы ценностей находятся по ту сторону человеческого разума... Коснуться границ разума - вот это прежде всего и есть философия... Для чего дал Бог человеку откровение? Разве Бог сделал что-нибудь лишнее? Человек не может знать сам собою, что есть добро и что зло, поэтому научил его Бог своей воле... Мораль: священник не лжёт, - в тех вещах, о которых говорят священники, нет вопросов об “истинном и ложном”, эти вещи совсем не позволяют лгать. Ибо, чтобы лгать, нужно быть в состоянии решать, что здесь истинно. Но этого как раз человек не может; священник здесь только рупор Бога. Такой жреческий силлогизм не является только еврейским или христианским: право на ложь и на благоразумие “откровения” принадлежит жрецу в его типе, будь то жрецы decadence или жрецы язычества. (Язычники - это все те из относящихся к жизни положительно, для которых Бог служит выражением великого Да по отношению ко всем вещам.) - “Закон”, “воля Божья”, “священная книга”, “боговдохновение” - всё это только слова для обозначения условий, при которых жрец идёт к власти, которыми он поддерживает свою власть - эти понятия лежат в основании всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства. “Святая ложь” обща Конфуцию, книге законов Ману, Магомету, христианской церкви; в ней нет недостатка и у Платона. “Истина здесь” - эти слова, где бы они ни слышались, означают: жрец лжёт. — ]
(первая ссылка для верующих в "самопознание", и вообще что-то, что "само-" и [глагол] комбинация, т.к. (окромя оснований математики от Хайтина) применяется ко всем физическим системам - ко всем без исключения)
1) https://www.mdpi.com/1099-4300/26/3/194
2) https://www.mdpi.com/1099-4300/26/6/481 [это к ZGM-II-12 прежде всего как "исторической методике" (а также главе из GD "«Разум» в философии")]
3) https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2022.0415 [это к тезису GD, "Anti-Darwin" (и теории "воли к жизни" как "воли к власти", в целом (Macht это то, что описывается в главе Za-I, "Von der schenkenden Tugend"))]
4) https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2310223120 [это снова к теории "воли к жизни" как "воли к власти" (накопления функций, "разнообразия сил"; JGB-200)]
5) https://evo2.org/mathematics-biology/ [это о роли "созидания" как нередуцируемости познания к физикализму или функционализму, т.е. о роли власти как первичного в познании (не познание сводится к химии, а химия к познанию)]
6) https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/5299/Active-InferenceThe-Free-Energy-Principle-in-Mind [это о вышеозначенной телеологии Фристона, частично пересекающейся с ницшевской методикой]
7) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610723001128 [общий справочник по теориям сознания]
И, наконец:
Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились принимать свидетельство чувств и поскольку научились еще и изощрять их, вооружать, додумывать до конца. ... [И тем не менее...] Вся наука, несмотря на свою холодность и независимость от аффектов, всё ещё находится под влиянием языка [см.: MA-11, "Язык как мнимая наука"], и она не избавилась от подкидышей, таких как «субъекты» (атом, например, является таким подкидышем, как и кантовское «вещь в себе»). Что удивительного, если скрытые, едва тлеющие аффекты мести и ненависти используют эту веру для своих целей, и на самом деле, не существует веры, которую они бы поддерживали с большим рвением, чем в ту, что сильному дозволено быть слабым, а хищной птице — овцой: таким образом, они получают право вменять хищной птице её хищничество… ]
(первая ссылка для верующих в "самопознание", и вообще что-то, что "само-" и [глагол] комбинация, т.к. (окромя оснований математики от Хайтина) применяется ко всем физическим системам - ко всем без исключения)
1) https://www.mdpi.com/1099-4300/26/3/194
2) https://www.mdpi.com/1099-4300/26/6/481 [это к ZGM-II-12 прежде всего как "исторической методике" (а также главе из GD "«Разум» в философии")]
3) https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2022.0415 [это к тезису GD, "Anti-Darwin" (и теории "воли к жизни" как "воли к власти", в целом (Macht это то, что описывается в главе Za-I, "Von der schenkenden Tugend"))]
4) https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2310223120 [это снова к теории "воли к жизни" как "воли к власти" (накопления функций, "разнообразия сил"; JGB-200)]
5) https://evo2.org/mathematics-biology/ [это о роли "созидания" как нередуцируемости познания к физикализму или функционализму, т.е. о роли власти как первичного в познании (не познание сводится к химии, а химия к познанию)]
6) https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/5299/Active-InferenceThe-Free-Energy-Principle-in-Mind [это о вышеозначенной телеологии Фристона, частично пересекающейся с ницшевской методикой]
7) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610723001128 [общий справочник по теориям сознания]
И, наконец:
Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились принимать свидетельство чувств и поскольку научились еще и изощрять их, вооружать, додумывать до конца. ... [И тем не менее...] Вся наука, несмотря на свою холодность и независимость от аффектов, всё ещё находится под влиянием языка [см.: MA-11, "Язык как мнимая наука"], и она не избавилась от подкидышей, таких как «субъекты» (атом, например, является таким подкидышем, как и кантовское «вещь в себе»). Что удивительного, если скрытые, едва тлеющие аффекты мести и ненависти используют эту веру для своих целей, и на самом деле, не существует веры, которую они бы поддерживали с большим рвением, чем в ту, что сильному дозволено быть слабым, а хищной птице — овцой: таким образом, они получают право вменять хищной птице её хищничество… ]
1) Вся психоаналитическая практика (прежде всего: "свободные ассоциации", радикальность именно этого метода; лаканианство, бионовское направление, кляйнианство и др.; "тело философствует" (а не "разум"));
2) "Светский буддизм" (медитативные техники вроде "зазен на ходу" соединённые с "https://files.catbox.moe/ze8y7w.pdf") вкупе с https://www.focusingtherapy.org/PDFs/FOTs-in-Training/TAEpaperAthensstudent.pdf
3) Image Streaming (и дополнительно, может быть, - "самоанализ" (Хорни));
4) https://www.liberatingstructures.com/ и методы design science (W. Ernst Eder, Stanislav Hosnedl; "Introduction to the Needs, Scope and Organization of Engineering Design Knowledge");
5) Работа с неразличённым означающим (Деррида), выявлением его по косвенным признакам и возможно - психоаналитическими методами (толкованием снов; "Attention and Interpretation" Биона, - как пример);
6) Уяснение фундаментальных ошибок в рассуждениях (в логосе), высвобождение "собственного логоса" ("свободные ассоциации","мозговой штурм" и прочее) - посредством интуиции (для некоторых "интуиция" равносильна "откровению"), а также формирование "собственного мюфоса" (нарратология);
7) "Сон, увиденный наяву, есть работа т.н. интуитивной переинтерпретации мира": работа с толкованием сказанного, речи, текста - посредством методов психоанализа снов (сознательно мы пребываем в бодрствующем состоянии ума и видим вещи как они есть в действительности - но бессознательно воспринимаем и интерпретируем вещи так, как наш организм делает это во сне; и во сне мы делаем абсолютно то же самое - но совершенно наоборот (бессознательно думаем что сон - это явь, а сознательно - делаем вещи такими, какими они являются нам - во сне)).
The end. ]
1) Вся психоаналитическая практика (прежде всего: "свободные ассоциации", радикальность именно этого метода; лаканианство, бионовское направление, кляйнианство и др.; "тело философствует" (а не "разум"));
2) "Светский буддизм" (медитативные техники вроде "зазен на ходу" соединённые с "https://files.catbox.moe/ze8y7w.pdf") вкупе с https://www.focusingtherapy.org/PDFs/FOTs-in-Training/TAEpaperAthensstudent.pdf
3) Image Streaming (и дополнительно, может быть, - "самоанализ" (Хорни));
4) https://www.liberatingstructures.com/ и методы design science (W. Ernst Eder, Stanislav Hosnedl; "Introduction to the Needs, Scope and Organization of Engineering Design Knowledge");
5) Работа с неразличённым означающим (Деррида), выявлением его по косвенным признакам и возможно - психоаналитическими методами (толкованием снов; "Attention and Interpretation" Биона, - как пример);
6) Уяснение фундаментальных ошибок в рассуждениях (в логосе), высвобождение "собственного логоса" ("свободные ассоциации","мозговой штурм" и прочее) - посредством интуиции (для некоторых "интуиция" равносильна "откровению"), а также формирование "собственного мюфоса" (нарратология);
7) "Сон, увиденный наяву, есть работа т.н. интуитивной переинтерпретации мира": работа с толкованием сказанного, речи, текста - посредством методов психоанализа снов (сознательно мы пребываем в бодрствующем состоянии ума и видим вещи как они есть в действительности - но бессознательно воспринимаем и интерпретируем вещи так, как наш организм делает это во сне; и во сне мы делаем абсолютно то же самое - но совершенно наоборот (бессознательно думаем что сон - это явь, а сознательно - делаем вещи такими, какими они являются нам - во сне)).
The end. ]
[ P.S. Что до стандартных подходов в философи и науке, это хотя бы:
1) https://www.socrethics.com/Folder3/Philosophy-as-Therapy-Review.htm (мысль Витгенштейна о "философии как терапии проблем")
2) Стандартный каузальный анализ https://miguelhernan.org/whatifbook
а остальное, - это уже предметно-ориентированное и зависящее от ситуации... ]
Проблемы же аналитической философии мало того, что "подметил" нейрошиз, сверх этого они раскапываются в https://global.oup.com/academic/product/imitation-of-rigor-9780192896469 и (и общей для всей философии привычки избегать физику) https://global.oup.com/academic/product/physics-avoidance-9780198803478 (понимая, что физика это "толкование, а не текст, и может явиться кто-нибудь такой, кто с противоположным намерением и искусством толкования сумеет вычитать из той же самой природы и по отношению к тем же самым явлениям как раз тиранически беспощадную и неумолимую настойчивость требований власти; может явиться толкователь, который представит вам в таком виде неуклонность и безусловность всякой «воли к власти», что почти каждое слово, и даже слово «тирания», в конце концов покажется непригодным, покажется уже ослабляющей и смягчающей метафорой, покажется слишком человеческим; и при всем том он, может быть, кончит тем, что будет утверждать об этом мире то же, что и вы, именно, что он имеет «необходимое» и «поддающееся вычислению» течение, но не потому, что в нем царят законы, а потому, что абсолютно нет законов и каждая власть ["необходимость" / Macht] в каждое мгновение выводит свое последнее заключение [Consequenz]...").
... der wille zur Consequenz, zur tiefe Consequenz...
Eins!
Oh Mensch! Gieb Acht!
Zwei!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
Drei!
„Ich schlief, ich schlief —,
Vier!
„Aus tiefem Traum bin ich erwacht: —
Fünf!
„Die Welt ist tief,
Sechs!
„Und tiefer als der Tag gedacht.
Sieben!
„Tief ist ihr Weh —,
Acht!
„Lust — tiefer noch als Herzeleid:
Neun!
„Weh spricht: Vergeh!
Zehn!
„Doch alle Lust will Ewigkeit —,
Elf!
„— will tiefe, tiefe [дважды!] Ewigkeit!
Zwölf! ]
Проблемы же аналитической философии мало того, что "подметил" нейрошиз, сверх этого они раскапываются в https://global.oup.com/academic/product/imitation-of-rigor-9780192896469 и (и общей для всей философии привычки избегать физику) https://global.oup.com/academic/product/physics-avoidance-9780198803478 (понимая, что физика это "толкование, а не текст, и может явиться кто-нибудь такой, кто с противоположным намерением и искусством толкования сумеет вычитать из той же самой природы и по отношению к тем же самым явлениям как раз тиранически беспощадную и неумолимую настойчивость требований власти; может явиться толкователь, который представит вам в таком виде неуклонность и безусловность всякой «воли к власти», что почти каждое слово, и даже слово «тирания», в конце концов покажется непригодным, покажется уже ослабляющей и смягчающей метафорой, покажется слишком человеческим; и при всем том он, может быть, кончит тем, что будет утверждать об этом мире то же, что и вы, именно, что он имеет «необходимое» и «поддающееся вычислению» течение, но не потому, что в нем царят законы, а потому, что абсолютно нет законов и каждая власть ["необходимость" / Macht] в каждое мгновение выводит свое последнее заключение [Consequenz]...").
... der wille zur Consequenz, zur tiefe Consequenz...
Eins!
Oh Mensch! Gieb Acht!
Zwei!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
Drei!
„Ich schlief, ich schlief —,
Vier!
„Aus tiefem Traum bin ich erwacht: —
Fünf!
„Die Welt ist tief,
Sechs!
„Und tiefer als der Tag gedacht.
Sieben!
„Tief ist ihr Weh —,
Acht!
„Lust — tiefer noch als Herzeleid:
Neun!
„Weh spricht: Vergeh!
Zehn!
„Doch alle Lust will Ewigkeit —,
Elf!
„— will tiefe, tiefe [дважды!] Ewigkeit!
Zwölf! ]
И, напоследок, я упомяну "Theory of the Solitary Sailor" как пример чего-то необыкновенного и за рамки die Welt выходящего, в лабиринт, за запретное, в плане философии... В том-то и дело, что нельзя из аристократического воспитания исключать танцы во всех их формах, – умение танцевать ногами, понятиями, словами: стоит ли мне еще говорить, что надо уметь танцевать и пером, – что нужно учиться писать? – Но в этом месте я, должно быть, становлюсь для русскоязычных читателей – полнейшей загадкой…
Nitimur in vetitum: этим знамением некогда и победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина. ]
Если ты не нейрофаг (предпочитаю это слово, оно чуть менее(?) оскорбительное), то куда делся нейрофаг? Скучаю.
Ты очень похож на него. В чем ваши расхождения во взглядах?
Он мыслит иначе. Он энциклопедист, я больше "метафорщик" (отчего понятно, почему мне Ницше даётся легче и интереснее, чем, скажем, Платон, или непосредственно модальная логика, - хоть все эти вещи нисколько не трудны, мои преимущества лежат в иных плоскостях).
Плюс его аргументация вертится либо вокруг научного метода, либо https://spacemorgue.com/lastmagic/ то есть она параллельна и как аргументация предшествует тому, что я разбирал. Если сравнивать с техникой: он разбирает "мясо", как работает двигатель и т.д. - я же больше смотрел на то как вообще "водить машину" (не видя смысла повторять чужую работу, которую другой делает лучше чем я).
>В чем ваши расхождения во взглядах?
Могут быть относительно понятия истины и познания, но это больше убежденческое, как мне кажется. Я говорю что ориентирование в мышлении на понятие власти как "fundamental concept" его проблему "слепого мозга" разрешает, он может утверждать, что нет, это не "решение", а просто выбор. (Я вижу эту проблему так. Может я ошибаюсь и он скорее бы со мной согласился бы.)
В любом случае, его область и апелляции в аргументах в каком-то смысле "ниже уровнем", что не делает её менее ценной (а скорее может даже более ценной), но более научной, чем сугубо философской (читай: потенциальным сциентизмом или theory-fiction), я же пошёл в сторону непосредственно философского выбора проблемы познания как фундаментальнейшей из всех (которую Ницше прямо переопределяет со спинозизма на иное, в JGB-13). Исходя из последнего предложения: философский конфликт мог бы быть такой же, как с Фристоном, - что нейрофаг потенциальный спинозист (а остальное это, как я написал выше, просто выбор (и следование методу)).
Теперь оказывается, что "недостатки" человека (cognitive biases) это оптимизации в условиях неопределённости, необходимости не bayes-логики, а квантовоподобной либо хотя бы excess-bayes логики, и ограниченности принятия решения временем. То есть оказалось что "bias" это даже не "bias", а просто идеализм.
(И, спрашивается, как после этого оценивать "благое", "прекрасное" и "истинное"? Ведь все эти теории научпопа о "bias-ах" и были тем самым отражением "благого", "прекрасного" и "истинного", оказалось, что они были построены на философских предпосылках и пресуппозициях (либо платонических, либо спинозистских)... (и вот тут уже вступает в силу теоретизация Ницше, представленная в пятой книге "Весёлой науки", и далее через "К генеалогии морали", "По ту сторону добра и зла" в (сугубо философский текст) "Так говорил Заратустра" (либо как метафилософия, либо как нечто, за пределы чего можно выйти "ещё"))
Учитывая проблему дистанции и коммуникации, невозможности идеальной коммуникации вообще... как бы это становится проблемой, от которой зависит возникновение гражданской войны, заключение брака и прочие сугубо, по сути, обыденные, потенциально близкие каждому, вещи, от которых зависит и власть, и жизнь.
Ein jeder schlägt und wird erschlagen,
Und fürs Kommando bleibt man taub.
Der Bürger hinter seinen Mauern,
Der Ritter auf dem Felsennest
Verschwuren sich, uns auszudauern,
Und halten ihre Kräfte fest.
Der Mietsoldat wird ungeduldig,
Mit Ungestüm verlangt er seinen Lohn,
Und wären wir ihm nichts mehr schuldig,
Er liefe ganz und gar davon.
Verbiete wer, was alle wollten,
Der hat ins Wespennest gestört;
Das Reich, das sie beschützen sollten,
Es liegt geplündert und verheert.
Man läßt ihr Toben wütend hausen,
Schon ist die halbe Welt vertan;
Es sind noch Könige da draußen,
Doch keiner denkt, es ging' ihn irgend an.
>И, спрашивается, как после этого
После чего "этого"?
Ты же сам написал, что концепт когнитивных искажений зафейлился.
>оценивать "благое", "прекрасное" и "истинное"?
Значит статус-кво откатывается к тому положению вещей, что было до зафейленой теории. То есть оценивать надо традиционно.
Это стандартное мышление, в данной проблематике не применимое. Ты уже вскрыл "нутро", обратно его заштопать (и воскресить Бога) - не выйдет. Надо разбираться тогда, почему выявленные феномен не bias, и как можно лучше (excess-bayes эту проблематику и пытается моделировать, как и квантоповодобные логики, behavioral economics, более state-of-the-art нейрокогнитивные теории, которые полагаются очень сильно на "экзокортикальность" (см. выше статью про "enlightened room problem" как пример этого феномена), и т.д.).
(Что идёт дальше, по моему мнению, я написал.)
причина способности к абстракциям это не язык а следствие услоложнения мозга. эмерджентное свойство. универсалий. порядок.
аргументы:
Пчелы используют «танцы» для указания направления к цветам, кодируя информацию о расстоянии и угле через движения тела — пример невербальной коммуникации. это не язык. Танец указывает направление и расстояние до пищи, но не может описать что-то вне этого контекста.
Младенцы в возрасте 6–12 месяцев способны различать количества (больше/меньше), понимать причинно-следственные связи (например, толкание предмета приводит к падению) и категоризировать объекты (живое/неживое) до овладения речью.
Осьминоги открывают банки, используя щупальца как инструменты, демонстрируя пространственное и причинное мышление. у них нет языка (если мы принимаем твое глупое сведение языков к сигналам).
мышление многоуровнево, язык - это лишь самый верхний уровень, который в шаге от "говорения". под уровнем языка есть уровни образов, не использующие язык, но способные к абстрактному мышлению.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Symbolic_Species
сначала образы затем язык
хоть ты лопни хоть ты тресни в мире есть порядок.
> эта попытка аргументировать тем, что аргумент либо разваливает, либо является пресуппозицией того, что хочется доказать ("эмерджентностью")
У тебя гегельянство с ламаркизмом на пару (хотя кто нынче будет винить за ламаркизм? это уже в прошлом), осторожнее, а не то понадобится запись в очередь на выдачу галоперидола (вот гегелефага нам и не хватало, кстати, он куда-то пропал).
>невербальной коммуникации. это не язык
>не язык
Ты сумасшедший? Тебя бы Сократ за такие (плохие) софизмы выпорол бы, как Ксенофонта.
Что в течение тысяч лет европейские мыслители думали только о том, чтобы что-то доказать, — сегодня, наоборот, мы с подозрением относимся к любому мыслителю, который «хочет что-то доказать», — что они всегда знали, каким должен быть результат их самого строгого размышления, как это было в случае с азиатской астрологией в прошлом, или как это все еще происходит сегодня с безобидным христианско-моральным толкованием непосредственных личных событий «во славу Божию» и «для спасения души»: — эта тирания, этот произвол, эта строгая и грандиозная глупость воспитали ум; рабство, как представляется, и в более грубом, и в более тонком смысле является необходимым средством духовной дисциплины и обучения.
>Гегель (и Шопенгауэр).
Esprit и мораль. — Немец, который понимает секрет того, как быть скучным умом, знанием и сердцем, и привык воспринимать скуку как мораль, боится французского esprit, чтобы не выколоть глаза морали, — и все же имеет страх и желание, как птица перед гремучей змеей. Из всех знаменитых немцев, возможно, ни у кого не было большего esprit, чем у Гегеля, — но он также имел такой большой немецкий страх перед ним, что это создало его особенно плохой стиль. Его суть в том, что ядро снова и снова оборачивается вокруг, оборачивается вокруг, пока его едва можно будет разглядеть, стыдливо и любопытно, — как «молодые женщины выглядывают из-под своих вуалей», говоря словами старого женоненавистника Эсхила. Однако это ядро — остроумная, часто дерзкая идея о самых интеллектуальных вещах, тонкое, смелое сочетание слов, которое принадлежит к обществу мыслителей, как дополнение к науке, — но в этих оболочках оно представляет собой как сама абстрактная наука и, действительно, как высокоморальная скука! У немцев была форма esprit, разрешенная им, и они наслаждались ею с таким бурным восторгом, что хороший, очень хороший ум Шопенгауэра замер перед ней. Он всю жизнь ругался против зрелища, которое предлагали ему немцы, но так и не смог объяснить его.
>не язык а следствие услоложнения мозга. эмерджентное свойство
А почему сразу усложнения?
Как известно, всякий мозг стремится к Богу, а Бог прост. То есть исходная и целевая причинности здесь в простоте, а не в усложнении.
читай Евангелие, там все написано
>У тебя ressentiment просто. Философу не свойственно.
Ницше было свойственно. Вывод: Ницше не философ.
Пока он не захлебнется своей мочей как его учитель.
Я уверен, что нищешизу минимум лет 30
Ну и то, что это нищий шиз вполне возможно что со справкой ирл с тоннами свободного времени, которое он тратит на сосач - тоже к бабке не ходи.
А какой смысл от свободного времени, если ты не развиваешься, если ты не узнаешь новое? Как в школе Ницше прочитал, так и застрял на этой фазе.
О чем мечтают философы
Они думают при этом как раз о собственных насущных нуждах: о свободе от гнета, помех, шума, о делах, обязанностях, заботах; о ясности в голове; танце, прыжке и полете мыслей; о чистом воздухе, остром, прозрачном, вольном, сухом, каков он в горах, где одухотворяется и окрыляется всякое одушевленное бытие; о покое во всех подземельях; о всех собаках, основательно посаженных на цепь; о том, что нет лая вражды и лохматой rancune, гложущих червей задетого честолюбия; о скромных и верноподданнических кишках, прилежных, как мельничные колеса, но далеких; о сердце чуждом, нездешнем, будущем, посмертном, — они разумеют, в итоге, под аскетическим идеалом веселый аскетизм обожествленного и оперившегося зверька, который больше парит над жизнью, чем почиет на ней.
Известно, каковы суть три высокопарных щегольских слова аскетического идеала: бедность, смирение, целомудрие; и вот рассмотрите-ка однажды повнимательнее жизнь всех великих плодовитых изобретательных умов — в ней всегда можно будет до известной степени обнаружить эту троицу. Разумеется, нисколько не в том смысле, что это-де ее «добродетели» — какое им дело, этого сорта людям, до добродетелей! — но как доподлиннейшие и естественнейшие условия их оптимального существования, их совершенной плодовитости.
[...] Пустыня, куда удаляются и уединяются сильные, независимые по натуре умы, — о, сколь иначе выглядит она в сравнении с тем, что грезят о ней образованные люди!.. И явное дело, ее решительно не вынесли бы все комедианты духа — для них она далеко не романтична и все еще недостаточно сирийская, недостаточно театральная пустыня!.. Напускная, должно быть, безвестность; сторонение самого себя; пугливая неприязнь к шуму, почестям, газетам, влиянию; маленькая должность, будни, нечто охотнее скрывающее, чем выставляющее напоказ; при случае знакомство с безобидным веселым зверьем и всякой живностью, один вид которых действует благотворно; горы, заменяющие общество, но не мертвые, а с глазами (т.е. с озерами); временами даже комната в переполненном проходном дворе, где можешь быть уверен, что тебя примут не за того, и безнаказанно беседовать с кем попало — вот какова здесь «пустыня»: о, достаточно одинокая, поверьте мне!
[...] Но то, чего избегал Гераклит, того же сторонимся нынче и мы: шума и демократической болтовни эфесцев, их политики, их новостей об «Империи» (персидской, читатель понимает меня), базарного скарба их «актуальностей», ибо мы, философы, прежде всего нуждаемся в покое от одного, от всяческих «актуальностей» (Heute). Мы чтим все притихшее, холодное, благородное, далекое, прошедшее, все такое, при виде чего душе нет надобности защищаться и сжиматься, — нечто, с чем можно говорить, не повышая голоса. [...] Такого сорта людям не по душе, когда их беспокоят враждами, а также дружбами; они легки на забвение и презрение. Им кажется дурным вкусом корчить из себя мучеников; «страдать за правду» — это предоставляют они тщеславцам и актеришкам духа и всем вообще праздношатающимся (— им самим, философам, есть что делать для правды).
О чем мечтают философы
Они думают при этом как раз о собственных насущных нуждах: о свободе от гнета, помех, шума, о делах, обязанностях, заботах; о ясности в голове; танце, прыжке и полете мыслей; о чистом воздухе, остром, прозрачном, вольном, сухом, каков он в горах, где одухотворяется и окрыляется всякое одушевленное бытие; о покое во всех подземельях; о всех собаках, основательно посаженных на цепь; о том, что нет лая вражды и лохматой rancune, гложущих червей задетого честолюбия; о скромных и верноподданнических кишках, прилежных, как мельничные колеса, но далеких; о сердце чуждом, нездешнем, будущем, посмертном, — они разумеют, в итоге, под аскетическим идеалом веселый аскетизм обожествленного и оперившегося зверька, который больше парит над жизнью, чем почиет на ней.
Известно, каковы суть три высокопарных щегольских слова аскетического идеала: бедность, смирение, целомудрие; и вот рассмотрите-ка однажды повнимательнее жизнь всех великих плодовитых изобретательных умов — в ней всегда можно будет до известной степени обнаружить эту троицу. Разумеется, нисколько не в том смысле, что это-де ее «добродетели» — какое им дело, этого сорта людям, до добродетелей! — но как доподлиннейшие и естественнейшие условия их оптимального существования, их совершенной плодовитости.
[...] Пустыня, куда удаляются и уединяются сильные, независимые по натуре умы, — о, сколь иначе выглядит она в сравнении с тем, что грезят о ней образованные люди!.. И явное дело, ее решительно не вынесли бы все комедианты духа — для них она далеко не романтична и все еще недостаточно сирийская, недостаточно театральная пустыня!.. Напускная, должно быть, безвестность; сторонение самого себя; пугливая неприязнь к шуму, почестям, газетам, влиянию; маленькая должность, будни, нечто охотнее скрывающее, чем выставляющее напоказ; при случае знакомство с безобидным веселым зверьем и всякой живностью, один вид которых действует благотворно; горы, заменяющие общество, но не мертвые, а с глазами (т.е. с озерами); временами даже комната в переполненном проходном дворе, где можешь быть уверен, что тебя примут не за того, и безнаказанно беседовать с кем попало — вот какова здесь «пустыня»: о, достаточно одинокая, поверьте мне!
[...] Но то, чего избегал Гераклит, того же сторонимся нынче и мы: шума и демократической болтовни эфесцев, их политики, их новостей об «Империи» (персидской, читатель понимает меня), базарного скарба их «актуальностей», ибо мы, философы, прежде всего нуждаемся в покое от одного, от всяческих «актуальностей» (Heute). Мы чтим все притихшее, холодное, благородное, далекое, прошедшее, все такое, при виде чего душе нет надобности защищаться и сжиматься, — нечто, с чем можно говорить, не повышая голоса. [...] Такого сорта людям не по душе, когда их беспокоят враждами, а также дружбами; они легки на забвение и презрение. Им кажется дурным вкусом корчить из себя мучеников; «страдать за правду» — это предоставляют они тщеславцам и актеришкам духа и всем вообще праздношатающимся (— им самим, философам, есть что делать для правды).
"О неспособности философов заниматься общественными делами см.: Горгий 484с-е. В "Государстве" Платон пишет, что занимающиеся долго философией выходят "большею частью людьми странными, чтобы не сказать негоднейшими"; причем многие из философов "делаются бесполезными для общества" (VI 487cd)"
Эти же ["философы"] с ранней юности не знают дороги ни на агору, ни в суд, ни в Совет, ни в любое другое общественное собрание, Законов и постановлений, устных и письменных, они в глаза не видали и слыхом не слыхали. Они не стремятся вступить в товарищества для получения должностей, сходки и пиры и ночные шествия с флейтистками даже и во сне им не могут присниться. Хорошего ли рода кто из граждан или дурного, у кого какие неприятности из-за родителей, от мужей или от жен — все это более скрыто от такого человека, чем сколько, по пословице, мер воды в море. Ему не известно даже, что он этого не знает. Ибо воздерживается он от этого вовсе не ради почета, но дело обстоит так, что одно лишь тело его пребывает и обитает в городе, разум же, пренебрегши всем этим как пустым и ничтожным, парит надо всем, как у Пиндара, меря просторы земли (geometrousa), спускаясь под землю и воспаряя выше небесных светил (astronomousa), всюду испытывая природу любой вещи в целом и не опускаясь до того, что находится близко.
Феодор. Что ты имеешь в виду, Сократ?
СОКРАТ. Я имею в виду Фалеса, Феодор. Рассказывают, что когда он, наблюдая небесные светила и заглядевшись наверх, упал в колодец, то какая-то фракиянка, миловидная и бойкая служанка, посмеялась над ним, что-де он стремится знать, что на небе, того же, что рядом и под ногами, не замечает. Эта насмешка относится ко всем, кто проводит свой век в занятиях философией. В самом деле, от такого человека скрыто не только что делает его ближайший сосед, но чуть ли и не то, человек он или еще какая-то тварь. А между тем он доискивается, что же такое человек и что подобает творить или испытывать его природе в отличие от других, и крайне этим озабочен.
[...] Так вот, такой человек, общаясь с кем-то лично или выступая на людях, – например, как мы прежде говорили, когда ему приходится в суде или где-нибудь еще толковать о том, что у него под ногами и перед глазами, – вызывает смех не только у фракиянок, но и у прочего сброда, на каждом шагу по неопытности попадая в колодцы и тупики, и за эту ужасную нескладность слывет придурковатым. Когда дело доходит до грубой ругани, он не умеет никого уязвить, задев за живое, потому что по своей беспечности не знает ни за кем ничего дурного, и в растерянности своей кажется смешным. Когда же иные начинают при нем хвалить других или превозносить себя, то он, не притворно, а искренне забавляясь всем этим, обнаруживает свою простоту и производит впечатление дурака.
"О неспособности философов заниматься общественными делами см.: Горгий 484с-е. В "Государстве" Платон пишет, что занимающиеся долго философией выходят "большею частью людьми странными, чтобы не сказать негоднейшими"; причем многие из философов "делаются бесполезными для общества" (VI 487cd)"
Эти же ["философы"] с ранней юности не знают дороги ни на агору, ни в суд, ни в Совет, ни в любое другое общественное собрание, Законов и постановлений, устных и письменных, они в глаза не видали и слыхом не слыхали. Они не стремятся вступить в товарищества для получения должностей, сходки и пиры и ночные шествия с флейтистками даже и во сне им не могут присниться. Хорошего ли рода кто из граждан или дурного, у кого какие неприятности из-за родителей, от мужей или от жен — все это более скрыто от такого человека, чем сколько, по пословице, мер воды в море. Ему не известно даже, что он этого не знает. Ибо воздерживается он от этого вовсе не ради почета, но дело обстоит так, что одно лишь тело его пребывает и обитает в городе, разум же, пренебрегши всем этим как пустым и ничтожным, парит надо всем, как у Пиндара, меря просторы земли (geometrousa), спускаясь под землю и воспаряя выше небесных светил (astronomousa), всюду испытывая природу любой вещи в целом и не опускаясь до того, что находится близко.
Феодор. Что ты имеешь в виду, Сократ?
СОКРАТ. Я имею в виду Фалеса, Феодор. Рассказывают, что когда он, наблюдая небесные светила и заглядевшись наверх, упал в колодец, то какая-то фракиянка, миловидная и бойкая служанка, посмеялась над ним, что-де он стремится знать, что на небе, того же, что рядом и под ногами, не замечает. Эта насмешка относится ко всем, кто проводит свой век в занятиях философией. В самом деле, от такого человека скрыто не только что делает его ближайший сосед, но чуть ли и не то, человек он или еще какая-то тварь. А между тем он доискивается, что же такое человек и что подобает творить или испытывать его природе в отличие от других, и крайне этим озабочен.
[...] Так вот, такой человек, общаясь с кем-то лично или выступая на людях, – например, как мы прежде говорили, когда ему приходится в суде или где-нибудь еще толковать о том, что у него под ногами и перед глазами, – вызывает смех не только у фракиянок, но и у прочего сброда, на каждом шагу по неопытности попадая в колодцы и тупики, и за эту ужасную нескладность слывет придурковатым. Когда дело доходит до грубой ругани, он не умеет никого уязвить, задев за живое, потому что по своей беспечности не знает ни за кем ничего дурного, и в растерянности своей кажется смешным. Когда же иные начинают при нем хвалить других или превозносить себя, то он, не притворно, а искренне забавляясь всем этим, обнаруживает свою простоту и производит впечатление дурака.
У Платона все софисты плохие, проблема только в том, что не одним Платоном жива была Эллада, - и слава Аполлону, что так (ему и посвятил свои труды Гераклит).
>Когда была изобретена логика и впоследствии наука. Теперь она дает ответы, а не домыслы фекалософов.
Слова настоящего фекалософа-зассциентолога!
Если нет (а кто сказал, что нет? Сократ изначально софист, а не философ, как Фалес, Анаксагор, Гераклит или Эмпедокл, и если Калликл сумел нагнуть Сократа до ничьей (а Сократа в тот момент уже можно было причислять к "философам"), то это только показывает победу Калликла, так как в отличие от "мудреца" Сократа (вспоминающего мелкие детали и подмечающего их как раб подмечает рассеянность хозяина), Калликл активен во всех сферах жизни), то это значит ещё больше, и хуже: это значит что Платон самым мерзким способом пытается очернить отцов-основателей философии и выгадать себе местечко "царя-философа" (так не делает даже Ницше, хоть он и перестарался, из-за связи с Вагнером (который его, Ницше, позднее очернил) со Штраусом). Это практически явный и намеренный удар в спину. (И здесь не нужно даже подключать конспирологию штрауссианцев, это просто очевидно, без знания логики и риторики.)
А так, как я уже сказал, не делал даже Ницше (у которого оскорбления неразрывно вплетены в диспозицию философского мнения, т.е. совершенно опциональны, и служат как бы увеличительным стеклом, чтобы указать на интеллектуально проблематичную ситуацию). И в этом смысле уж очень мерзок Платон, учитывая что Фалес и так доказал своё умение делать деньги.
(Платон просто сплетни пересказывает в худшей манере клевещущей не женщины, но гнилой бабёнки, под именем Сократа (либо это Сократ, и Платон ему наследует); какое вообще дело Сократу или Платону до того как мыслитель мыслит? и что дальше? может Платон будет лезть ещё и в трусы мыслителя? указывать как и каких ему трахать женщин? ой, погодите, а ведь он это как раз со своей "полиаморией" и хотел сделать...)
Короче, приведённый отрывок, даже с контекстом - это просто какая-то желтушная грязнейшая инсинуация, недостойная даже софиста. Зато черни - очень даже (боже, как низко пал Платон...).
Ницше принес жертвы Дионису, Гераклит - Аполлону, Эмпедокл - Афродите, а Гомер - Зевсу. Один Сократ бегает и Герой клянется, как женщина, женщиной не будучи чуть более чем совсем (и это притом, что двуполость Дионису - не помеха).
>Сократ изначально софист
Софи́ст
Семантические свойства
Значение
1. учитель риторики и философии в античном мире
2. тот, кто сознательно применяет кажущиеся логичными, но неверные и ложные аргументы
))))
>>4574
>Можно же попросить заморозить свое тело чтоб потом если изобретут воскрешение - жить и кайфовать дальше.
>Так замораживают вообще труп. С надеждой на то, что потом разморозят лет через 100-300 и омолодят.
>верит, что труп - это не труп и можно "восстановить"
>сказочный...
Действительно, нужно быть сказочным, чтобы верить в подобную ахинею. Некоторые не только верят, но и оплачивают. В результате порой возникают скандалы и расследования.
>>4571
>>4591
>>4606
>Боюсь страданий старости-умирания.
>>после смерти окажется, что вы (ваше сознание/душа) продолжит существование?
>Настолько маловероятно, что плюсы/минусы этого не рассматриваю.
>>А на чем основана твоя оценка вероятности этого? Почему маловероятно это, а не обратное?
>Основана на том, что созна(ва)ние, памятование, личность - очень убедительно выглядят как функции тушкомозга. Нет необходимости искать их где-то ещё.
>Таково моё убеждение, расписывать в деталях тут лень.
>Боюсь страданий старости-умирания.
>Нет необходимости
Раз у тебя нет сознания, то действительно нет необходимости что-то искать, а также бояться неизвестно чего и неизвестно зачем. Надеюсь, ты это понимаешь. Потому что если нет, то тебе и вправду незачем что-то писать здесь, рановато.
>>4490
🤝спасибо, всегда приятно+полезно+классно получить такой ответ на вопрос: когда отвечают именно на то, что спросил (и получается именно диалог как бы что ли) и показывают, что вообще значит ответить (когда чувствуешь, что на твой вопрос действительно ответили и задаёшься вопросом "Как?", затем перечитываешь и пытаешься схватить, чтобы и самому тоже научиться отвечать)
 122 Кб, 1584x698
122 Кб, 1584x698Какой же великий...
Ты похож на аутиста, пытающегося наладить контакт с людьми. Если это правда, то очень рад за тебя, продолжай. Если ты правда аутист, я тебе обязательно отвечу
Шизофренической является вся система в целом, в этом весь прикол.
Помню только игнорирование нормативных границ символьного, когда можно быть как, допустим, КаньЙе, то есть быть негром и зиговать.
 6 Кб, 231x218
6 Кб, 231x218Капитализм ввёл нездоровую, ужасающую интенсивность потоков, через абстрагирование. Превратил всё в продукт, даже идентичность, символы. Деттерриторизировал, а дальше ретерриторизировал всё изначальное, что было ближе к трайбальному, родственному с природой и родом.
Для полноты картины можешь Маршалла Маклюэна навернуть. Он этот момент с абстрагированием исчерпывающе, даже сверх того объясняет на примере медиа, медиума вообще, в том числе денег.
Я на это смотрю как на генерализованные операнты, как в теории реляционного фреймирования. Только здесь операнты коллективные, продуцируемые культурой и вживляемые через жажду принадлежности и страх остракизма.
То есть при искусственном дроблении изначальных потоков, их рекоммутации происходит взрывное повышение интенсивности. Можно опошлённо смотреть на это, как на тот же фастфуд - джанкфуд. Сначала базовые параметры задираются (солёность, жирность, сладость), потом более второстепенные (хруст, цвет , упаковка) и даже и репрезентационные (выдумки, абстракции, престиж, образ счастливого потребления, осознание чужого осознания твоего потребления, как у Бернейса).
Т в системе новых, искусственных символов старые, более органичные не просто проигрывают, они воспринимаются, как дефектные искусственные. И всё новые поколения людей, выращенных на симулякрах, воспринимают всё в качестве оных. Читал как-то прикольный комментарий по поводу жития в гаджетах. Типа юные не путают реальность с медиа, не путают свои тиктоки и реальность. Они весь мир в рамку тиктока и перформативности вписывают в своей голове. Весь мир тикток, а люди в нем мастурбисты-скибидисты, так сказат/b/.
Отщепленные от своей территории, своего целого, отдельные атрибуты, качества, детали обретают огромную интенсивность. Абстракции чем выше, тем мощнее. Там не в смысле из весомости логической, а ценности общественной и личной. И момент творчества (ага/ого/хаха момент). Типа как забавность, потешность, необычность, шок валью даже, но на порядок другой выше. Чистая некромантия и колдунство.
Многие со своим с рацио этого не видят, потому что не рассматривают символы как пищу своего ментального тела. Но при этом давно жрут совершенно лавкрафтианские чипсы со вкусом бездны пустого желания, вечного общения.
Это пиздец, это хуже доставания из могил Платона с Нише.
 1,6 Мб, 1020x1057
1,6 Мб, 1020x1057https://dropmefiles.com/eOM3J
>>4793 (Del)
Читай главу "Материалистическая психиатрия", где он это пытается объяснить (или оправдать). Вообще писал статью на эту тему но забросил. Я бы не сказал, что у ДГ сторйно получилось это вывести, поскольку термин сильно конфликтует с психиатрией (особенно современной). Тебе, может, станет более "ясно" при прочтении эссе Ланда (кажется, конец "Машинного Желания").
>>4822 (Del)
> То есть, не является ли процесс "капитализма" ("свободного рынка" по А. Смиту) по определению именно акселерационистским?
Вопрос не совсем корректно задан.
Дело в том, что для Ланда, капитализм – это не статическая монолитная система, но скорее внешняя динамическая децентрализованная всепроникающая сила, что претерпела различные фазы развития. По мнению Ника Ланда, капитализм, существовал всегда, даже во времена ранней торговли и колониальной деятельности. Капитализм для него – это ноумен, т.е нечто непознаваемое для нас и независимое от нашего восприятия. Нечто, на что мы не можем даже толком повлиять.
У многих философов было предположение, что всеми обществами движет некий животный инстинкт, который находится в основе всего и, тем не менее, стремящийся к некой всё более сложной и фрагментированной комплексности. У Шопенгауэра это была воля к жизни, у Ницше воля к власти, у Делёза желающее производство. Все эти процессы объединяет то, что они иррациональны, антителеологичны и антиутилитарны.
Ник Ланд использует хтоническую лавкрафтианскую картину ужаса, дабы описать всю ноуменальность материи, а также иррациональный и хтонический характер процессов, что проистекают из самой основы нашей природы, и которые двигают общества вдоль исторической линии. Ланд использует ницшеанскую концепцию воли к власти, а также либидинальный материализм Лиотара (Что базируется на базовом материализме Жоржа Батая), не только для деструкции тех ложных предубеждений философии времен эпохи просвещения с её рационализацией всего и вся, но и для описания той силы, что лежит в базе материи.
https://spacemorgue.com/acc/
> И, следовательно, не является ли это некой дополнительной формой государственности
Если смотреть с позиции акселерационизма и вышесзложенного текста - то "нет" или "не важно". Но ты можешь высторить своё мнение, менее оптимистичное. (Ты же читал Фишера?)
> капитализм перестаёт, по логике, быть таковым (раз уж он определяется через "шизофрению").)
Ты, я так понимаю, говоришь про отскок от "тела капитала" наоброт к "телу деспота", которле ДГ в своих оптимистичных трудах не предусмотрели.
 1,6 Мб, 1020x1057
1,6 Мб, 1020x1057https://dropmefiles.com/eOM3J
>>4793 (Del)
Читай главу "Материалистическая психиатрия", где он это пытается объяснить (или оправдать). Вообще писал статью на эту тему но забросил. Я бы не сказал, что у ДГ сторйно получилось это вывести, поскольку термин сильно конфликтует с психиатрией (особенно современной). Тебе, может, станет более "ясно" при прочтении эссе Ланда (кажется, конец "Машинного Желания").
>>4822 (Del)
> То есть, не является ли процесс "капитализма" ("свободного рынка" по А. Смиту) по определению именно акселерационистским?
Вопрос не совсем корректно задан.
Дело в том, что для Ланда, капитализм – это не статическая монолитная система, но скорее внешняя динамическая децентрализованная всепроникающая сила, что претерпела различные фазы развития. По мнению Ника Ланда, капитализм, существовал всегда, даже во времена ранней торговли и колониальной деятельности. Капитализм для него – это ноумен, т.е нечто непознаваемое для нас и независимое от нашего восприятия. Нечто, на что мы не можем даже толком повлиять.
У многих философов было предположение, что всеми обществами движет некий животный инстинкт, который находится в основе всего и, тем не менее, стремящийся к некой всё более сложной и фрагментированной комплексности. У Шопенгауэра это была воля к жизни, у Ницше воля к власти, у Делёза желающее производство. Все эти процессы объединяет то, что они иррациональны, антителеологичны и антиутилитарны.
Ник Ланд использует хтоническую лавкрафтианскую картину ужаса, дабы описать всю ноуменальность материи, а также иррациональный и хтонический характер процессов, что проистекают из самой основы нашей природы, и которые двигают общества вдоль исторической линии. Ланд использует ницшеанскую концепцию воли к власти, а также либидинальный материализм Лиотара (Что базируется на базовом материализме Жоржа Батая), не только для деструкции тех ложных предубеждений философии времен эпохи просвещения с её рационализацией всего и вся, но и для описания той силы, что лежит в базе материи.
https://spacemorgue.com/acc/
> И, следовательно, не является ли это некой дополнительной формой государственности
Если смотреть с позиции акселерационизма и вышесзложенного текста - то "нет" или "не важно". Но ты можешь высторить своё мнение, менее оптимистичное. (Ты же читал Фишера?)
> капитализм перестаёт, по логике, быть таковым (раз уж он определяется через "шизофрению").)
Ты, я так понимаю, говоришь про отскок от "тела капитала" наоброт к "телу деспота", которле ДГ в своих оптимистичных трудах не предусмотрели.
>>4034 (Del)
Он ещё в /psy/ постил в тред депрессии. Чел явно безработен, скорее всего инвалид или сидит на пособии.
>>4674
2.1. на 90% речь состоит из цитат (Ницше)
3. Лол, треды, в которые он постит, смывает из-за бамплимита через 3 дня.
>>4682
> Прям вдохновляет, да. Тоже хочется дойти до уровня, когда мысль вот так вот может цвести.
У меня наоборот, просыпается осознание собственной огранчиенности и желание всё бросить и никогда не за что больше не браться.
>Продолжай плотнейшим образом держать в курсе.
Обязательно.
>Захожу сюда ради твоих сообщений
Спасибо, стараемся. Не я один тут ссу нищешизу в сапог. Всем тредом обеспечиваем ему "Неупиваемую Чашу", лол.
Нет продвиждения, нет понимания, нет навыков. Сколько бы в какой области не старался
>>4829
А спасибо, я чёт не нашел.
>Следовательно, на фоне Ницше, - нет и пессимизма, - это всего лишь физиологическое/нейробиологическое/психоаналитическое и пр. явление. (Исправляется модификацией тела до удобоваримого, либо никак. Пока наука не дошла до такой точки, - но разве это аргумент против жизни? Это аргумент против нехватки власти, и не более.)
А вот и нейрошиз пожаловал. А говорили что сдох.
> У Ницше же настоящий пессимизм, - никакого такого "счастливого мира", - нет даже в теории (и точка).
Кто сказал, что у остальных (например, у меня) есть?
> Ницше - это мета
Это я знаю (и он остаётся "мета" ко всей дальнейшей философии). И у самого Ницше есть аргументы, например, за смерть или неоднозначный взгляд на некоторые вещи, например, страдание.
Но у его последователей (тм) правило это кричать о том как прекрасна жизнь и вторить всем пессимитично настроенным гражданам (тот же ницшешиз катал телеги про то а-натализм это плохо)
> позиция имморализма (lisez: например, науки)
Наука наоборот моралистична и мочёные служат чужим ценностям.
> если бы у "пессимистов" была могущественная и неодолимая аргументация, но проблема в том, что её нет.
Она выражена слишком художественно, либо слишком сухо-аналитически и конкретно (как у Бенатара)
> разве это аргумент против жизни
Контингентность и либидинальный материализм - аргумент против привелигированного рассмотрения "жизни"
> Это аргумент против нехватки власти, и не более
У одних её хватает, у других нет. И тут другие либо прыгают в речку, либо, как один народ (в Генеалогии Морали) переоценивает ценность и получает эту самую власть (что по мнению Ницше просто ужасающе, на протяжение всей ГМ он брызжет слюной какие же люди рессентимента нечестивцы и негодяи, и лучше бы им вообще не жить и не творить)
> В случае здорового/невротика проблема решается сменой attachment-а и набора символических структур (идеологий)
Проблема страдания этим не решается. Ну, мы можем стать телеологами и верить в ненапрасность страдания, что придаст ему некий ... смысл, но физическая боль останется навсегда. Даже если я откажусь от претензии и желании объять необъятное (невозможное из-за ограничений), скажу, что не хочу рисовать, что не хочу купить телескоп (т.к. дораха), уороче, ударюсь в аскезу, - боль останется., дряхление как необратимый процесс останется, пока безликая природа будет скалить клыки, говоря при каждой возможности что ты ничтожество и тебе вообще суждено бы умереть (как некоторому проценту мужской популяции, которые производятся утробами ангтропогенеза тупо на растерзание)
Буквально весь сабреддит по Ницше и нигилизму, как только встречается с отрицательными оценками или валентностью, исходит слюной своим дебильным абсурдизмом. ЭЙ БРО УНИВЕРСАЛЬНОГО СМЫСЛА НЕТ, БОХ УМЕР, ПОЭТОМУ ТЫ ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ ЕГО САМ!! ЕЕЕ! ВОТ ЭТО УЛЕЕТ, ПРОСТО АТВАЛ БАШКИ! Из раза в раз.
Быть пессимистом - даже по отношению к современности - это порицаемо.
Но тут ты прав (я уже писал сюда ссылку на ссылку Лиготти, где показано, что чувство благополучия человека детерминировано его генетикой).
---
Между прочим:
«Бессмысленность происходящего»: вера в это — следствие уразумения неправильности прежних интерпретаций, обобщение уныния и немощи — не необходимая вера.
Как неучтив человек: где не видит смысла, давай его отрицать!
(Это пишет Ницше в 1885-1886)
>В случае здорового/невротика проблема решается сменой attachment-а и набора символических структур (идеологий), развития умения рефлексии ("наблюдающее я" из ACT) и прочего, в случае шизофреника проблема именно в нейробиологической и психоаналитической механике, - и прежде всего они должны быть подвергнуты "исправлению"
А в твоем случае что поможет? Ходил ли ты к мозгоправу? Какой диагноз он тебе поставил?
>"воля к власти" снова побивает сократизм, предполагая даже безумие как адекватный вариант и сценарий, - лишь бы он делал безумного, - сильным, подебителем))0)))
Так вот почему Ницше пил мочу и ел кал. Он под конец жизни осознал, какая же шизофазия из говна и пафоса находится у него в голове.
А что эти реддиторы предлагают как свои новые смыслы? Наверняка пить мочу, становиться трансом и долбиться в жопу.
> пессимизм (форма гедонизма)
ПЕССИМИЗМ ЭТО НЕ ГЕДОНИЗМ ЧТО ЗА ЧУШЬ
Гедонизм это про то, чтобы строить жизнь лишь вокруг удовольствия. Но представь, что ты мыслишь вне годонистической парадигмы, и твои ценности удовлетворить всё равно тотально невозможно (например, из-за жизни в определенное время в определенном месте, из-за внешних факторов и внутренних)
> Они инстинктивно, по мере убывания своего благочестия, зубами держатся за моральные оценки.
Наоборот, я разъебал все "морали", а потом Н. и прочие разъебали меня.
Сейчас как раз правит не мораль, а аксиоматика капитала, система знаков. И даже это уже не совсем вписывается в гедонизм.
> Как неучтив человек: где не видит смысла, давай его отрицать!
Я вижу смысл и вижу динамику: строительство кибергулага, псиопы. Мы - овечки, обречённые и рождённые чтобы удовлетворить чей-то голод.
>>4841 (Del)
Победитель уже давно не "сильный".
>>4858
Конечно баблишко крутить
Мужчина и женщина повстречали друг друга, затем потрахались. Родился ребенок. Они все вместе поели, посрали. Легли спать. На следующий день ситуация повторяется. Каждый день.
Потом кто-то из них умирает. Или умирают сразу все.
В чем не прав?
Симлуякр это такое символьное, за которым уже никакая реальность не стоит. Чистый аффект, созданный другими символами.
Акселерационизм не изучал, отталкивает. Слишком шизо и некро.
Вообще, я ощущаю недостаток понимания в такой широте, в какой ты ставишь вопрос.
В том числе про скрытое оправдание коммунизма.
Как я это вижу. КиШ есть внеидеологическое в политическом смысле поделие. А для коммунизма слишком индивидуалистическоое. По крайней мере не подразумевалось таким. А любые трактовки в эту сторону это просто попытка впихнуть повествование в существующий дискурс.
Если каждый может иметь свой собственный способ понимания жизни, даже скорее чувствования ея, то строем ходить и эффективно организовываться им будет вряд-ли возможно.
Книжка же скорее перформанс, чем настольная книга таких-то и таких-то. Выйти из тирании унифицированного символьного она подталкивает, а не подчиняет новому. В этом её смысл, как мне видится.
Я вообще почитаю за благо выпадать из общего символьного, так как для меня это были буквальные рельсы, вне которых я реальность/альтернативное символьное почти разучился различать. Так и до ухода в неологизмы и речекряк, многими порицаемые, в том числе карательной психиатрией, недалеко. Но в этом я вижу только плюсы. Человек всё равно присваивает знание настолько, что искажает в пользу ранее имевшихся предубеждений. Так почему бы не строить свое понимание сразу не жестким, не вписанным в ригидные структуры чужих толкований?
>Ты сам себе противоречишь (аффект это и есть субъективная реальность, и объективная в рамках психологической либо нейрокогнитивной методики (в смысле замеров ЭЭГ и прочего)).
Ты сейчас на слова триггернулся. Реальности за ними нет никакой, только чужие интерпретации и вольно, в том числе тобою здесь, трактуемые интерпретанты.
Ну а дальше ты просто делаешь то, что я там обозначил. Впихуешь в свою предвзятую и полностью условную модель всё, что видишь. Топдаун мышления ловушка.
Фантазируешь опять и навязываешь свою интерпретацию.
Я не говорил, что за этим ничего нет. За этим нет реальности. Только смутная солянка из наложившихся ранее аффектов, которые при содействии симлуякров живут самостоятельной псевдожизнью. Словно дерево, ставшее дряной жёлтой газетой, потом ставшее собакой из папье-маше, а далее, например, украшением для чьего-то бонга.
Думаю, когда как. Но скорее всего концентрированная (Der Wille zu urinieren)
 199 Кб, 598x1280
199 Кб, 598x1280Он читает Говнона.
Это звучит определённо как комплимент, но ты опознался.
А что сразу Ницшешиз не какой-нибудь Заговор Искусства или Пациашвили? Они лучше подходят на роль кандидата, куда более толковые и лучше понимаю Ницше. У меня-то про него было по-моему только одно видео с зачитыванием статьи. Предлагаю присмотреться к другим кандидатам.
Да мысль-то банальная. Типа их общество довело. Просто подаётся очень претенциозно. Типа мы сначала исследуем симптомы чтобы выявить их причину, саму болезнь. И так по причинно-следственной цепочке доходим до капитализма. Например, шизофрения порождается желанием, а капитализм производит желания.
Я вот сейчас это написал, и саму как-то пошло стало.
> Если ты не можешь оторвать свою идентичность от того, что в интернете написано
О у меня такое. Я с 10 лет сижу в интернете и у меня не было ИРЛ и реального опыта. Те крупицы банальности, что были, типа дойти до школы через бараки и хрущи - были несравненноо серее всякого опыта в интернете. И если ИРЛ слабый ничтожный больной карлик - то в сети ты можешь (тогда, по крайней мере) что угодно, написать знаменитостью изи обрести круг общения вовне сельского быдла (именно "быдла")
>>4908 (Del)
Это не работает. Я есть двач, и двач вторичный. Двач это часть меня. Этот "двач" во мне был сформирован внутри задолго до того, как "я" о нём вообще узнал. И да, до двача я сидел много лет в других соцсетях, котоыре теперь кажутся бодрийяровским безумием.
Двач - это сообщество. Совершенно разношёрстное. Чем оно хуже сообщества, например, соседей? Или сообщества одноклассников? Не понимаю этой надменности нормисов. - Разве что тем, что в лицо им побоятся сказать то, что искренне думают и ощущают, - ты в конце-концов будешь общаться с "маской" своей же "маской". - Возможно, в том, что у них лично нет привилегий богатства, статуса, и внешки в безликом посте - не подкупишь, не умаслишь. Не получишь больше внимания или одобрения лишь за счёт - внешности и статуса (и пола).
При том что реальность (сейчас а не 15 лет назад) не отличает себя в лучшую пользу от "двача" или полотна сети. Реальность это уже какой-то порождение сети или её отсутствия, поистине, бодрийяровский кошмар. Люди делают действия, заученные в сети, снимают каждый свой шаг, обращаюстя к рекламе и псиопам. Да, плохо выразил, но это надо "чувствовать" - исчезновение 'фундаментальной реальности' под гнётом вирусных пут пауков. Ты не сможешь даже ничего сказать, чтобы не быть записанным, определённым. Камеры и системы прослушивания, мимокроки, снимающие всё подряд.
>Ну так что, будет ли безусловным добром сжечь детский сад/школу с инфернальными малолетками и их пособниками, как считаете?
Да, это безусловно необходимо. Только ложный гуманизм будет искать лазейки и оправдания. Морально релятивистам должно быть стыдно.
>В чем не прав?
Во всём, и ты это знаешь. То, что ты расписал - банальщина на избитую тему абсурдятины "как же всё" без и бес-. И даже её ты изложил коряво.
Неоспоримость аргумента возможна только в случае его абсолютной истинности. Для меня не существует "тела" и "слов" в том смысле, как трактуешь их ты в данном случае и постах, где это прослеживается. Тело - это всего лишь тело. Не я для тела, а тело для меня. А слова - лексика языка, как ты знаешь, язык же - это форма выражения чего-либо.
Безусловно, следует различать сам факт и интерпретацию факта. В случае Ницшешиза фактом является корпус текстом с общим "слогом", с такой стилевой особенностью и вайбом, которые иначе как словом ссанина я охарактеризовать не могу.
>И если ИРЛ слабый ничтожный больной карлик - то в сети ты можешь (тогда, по крайней мере) что угодно, написать знаменитостью изи обрести круг общения вовне сельского быдла (именно "быдла")
Литералли ницшешиз.
Ницше создал на ррясантисенте баттхерте от христианства свою религиозную шизо-систему. Че такое "воля к власти"? Да сапог его знает. Мочехлеб не любил внятных определений. Обмазывался иррационализмом и дрочил аки Пахом.
Это все от Шопенгауэра, обдрочившегося на индуизм, пошло. Мировая Воля, вот это все.
о новые маневры пошли, мою графоманию не хотят ценить потому что они гилики, а не потому что это внатуре графомания
 362 Кб, 905x1280
362 Кб, 905x1280Двачую.
>гилик
>Для человека, у которого слова занимают положение высшей силы по сравнению с его собственным телом, - несомненно
>тебя, - в интернете, - нет, как некой неразрывной от твоего тела физической сущности
>Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле
>Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле, — да, обратно к телу и жизни: чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий!
>Но пробудившийся, знающий, говорит: я — тело, только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для чего-то в теле.
Кстати Ницше литералли последовательный философ гилицизма, объявивший войну всем, кто считает, что человек есть или даже может быть чем-то высшим, чем обезьяна, животное. Ориентиры: Гомеровские греки это гилики, племенные бабуины (~кавказцы, просто как близкий пример "племени"), "ренессансный человек" (фантазматический) это гилик, сверхобезьяна, белокурая (ну или темная) бестия
 76 Кб, 275x183
76 Кб, 275x183Сверхчебурек это всего лишь...
Повезло тебе, что у меня сработал импульс в мозгу и я проскроллил до середины твой пост.
>"Сверхчеловек" это всего лишь состояние повелителя
Главная обезьяна?
>ведёт человечество
Führer, ВОЖДЬ? Гегемон?
>Главное, чтобы был такой ориентир, который выводит человечество из-под воли случайности
Так вождь всегда будет, вне желания Ницше бабуины собираются в стаю, устраивают rangordnung и выбирают главную обезьяну. И слушают седых обезьян, как правильно чистить картошку и какие эвристики для сбивания кокосов были в 20-х годах
>Всё. Конец замысла.
Спасибо что объяснил, мистер объяснятель. Всё, вопросов больше не имею, цитаты больше не нужны (пожалуйста)
>цитаты больше не нужны (пожалуйста)
Для этого ему придется излечиться от уринозависимости и копрофилии.
Очередной тред на 3 поста, а вопрос надо было задать сюда >>73617 (OP)
Или это бот/модер создают активность?
Да похуй. Просто игнорь таких даунов, не отвечай в их треды.
Вот у Гегеля, Ницше и Хайдеггера все довольно мутно, вводятся какие-то довольно абстрактные категории, делаются слишком неправомерные допущения.
Да, про аналитическую философию слышал. Но мне бы еще хотелось понять, кто из философов, живших до XX века, соответствует критерию строгости мышления. А может Юм или Кант ничем не лучше Гегеля в этом плане?
Еще задумался, если Платона и Аристотеля изучают, хотя в их рассуждениях присутствует религиозный (или "религиозный") элемент и подчас он даже определяющий, то почему игнорируется схоластическая философия? Там ведь же были серьезные мыслители. Тот же Хайдеггер про Иоанна Дунса Скота диссертацию написал.
У средневековых. Называется схоластика. От них ведут свою традицию аналитические философы, создавая свою американскую схоластику, научную философию. Изучают сознание, свободу воли, важные вещи.
Я вот тоже подумал про схоластов. Но там же есть принятие аксиом библейского откровения, из которых все выстраивается. Или у них было помимо этого естественное богословие?
>От них ведут свою традицию аналитические философы
Это троллинг или в каком-то смысле так оно и есть?
Как вообще отделить Декарта, Логику Пор Рояля и Лейбница от схоластической традиции? Почему это уже другое?
Или вот Томас Рид
>Его философия морали напоминает латинский стоицизм опосредованный схоластикой, Св. Фомой Аквинским и христианским мироощущением. Он часто цитирует Цицерона, у которого он собственно и заимствовал термин «здравый смысл».
 172 Кб, 839x1190
172 Кб, 839x1190 415 Кб, 800x1068
415 Кб, 800x1068https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_Thomism
>строгая аргументация
>делаются слишком неправомерные допущения
>принятие аксиом библейского откровения
define "строгая аргументация". Это когда пытаются выводить суждения из закона тождества и закона непротиворечия?
>в виде интуиций и догадок
Дедуктивное (единственно строго логическое) рассуждение это именно когда ты начинаешь с какой-то взятой с потолка хуйни и выводишь из нее громадную систему суждений
Это троллинг от того, кому печет жопу с аналитички.
Ну можешь начать с азов зарождения нужной тебе философии. Просто до самой строгой философии науки ты так не скоро дойдешь. А тебе вроде как нужна именно строгость, а не континентальная шиза.
Если брать всякий религиозный опыт, то философ должен либо смотреть на какие-то общие паттерны (архетипы), либо рассматривать каждый случай в контексте той традиции, которая сложилась из или обрамляет данный икспириэнс.
>где?
В природе.
>как?
А вот это уже к каждому конкретному философу вопрос, пусть отвечают. Вообще проще всего ради СуперСтрогости, сопряженной с философией логику изучить. Предикатную там и тд.
Изучать религиозный опыт с философской точки зрения - как изучать опыт снов. Собственно, зачастую это одно и то же. Верующих часто посещают их высшие силы именно во снах.
И выводится ли из него этика?
Если этика не выводится, то настоящая ли это полнота и не будет ли лучше всякое иное мировоззрение, которое задает ориентиры для человеческого существования, дает опору, осмысливает, наделяет мир ценностями?
Это прежде всего христианство. Как система оно имеет громадные мощности с точки зрения рациональных обоснований (в разделении на деноминации отчетливо это проявилось - разные конфессии следуют своими путями в апологетике и богословии, выстроив пересекающиеся, но отдельные системы), но в самом главном оно основано на идее Непосредственного Откровения. Разве возможен иной путь к истине?
Остальные системы взглядов, чем отдаленнее от христианства, тем менее мне понятны.
Также возможно, что многие философские традиции не ушли из моды, а просто закончились, исчерпали себя, с их помощью не могли объяснить сложность мира в полноте.
физикализм
смотря кто выводит
у верующих этика выводится только из Бога, больше не из чего не выводится
>в самом главном оно основано на идее Непосредственного Откровения
Нет, чтобы быть христианином, тебе не надо быть Моисеем, который буквально не вылазил из "кабинета Шефа".
>Христианство
Да, я согласен.
>католичество в частности
Католичество очень тотальное. Наверно нет ни одной области философии, которая не была бы отрефлексирована в рамках католического мышления. Все, что происходит в науке, любое научное знание, которое открыто, уже включено в католическое описание реальности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Физикализм
>Некоторые авторы считают, что физикализм допускает существование таких явлений, которые не вписываются в картину мира материализма
Что это значит?
Возможно, как минимум, каждому нужно пройти через это уважение и не отбрасывать религиозные системы сразу. Отбрасывая, лучше понимать, от чего отказываешься. Я по итогу пришёл к выводу, что эти системы могут присесть на уши и для меня это стало самой точной формулировкой. Это очень красиво, очень интересно, но куда именно это ведёт? Меня никуда не вывело: поворот за поворотом, поворот за поворотом и ничего, просто ничего. Хотя Джемаль, например, красиво скажет, что философия - это реакция на травму, нанесённую пророками
Бывает вот этот переход, когда ты читаешь, что "Бог милостив, потому что если бы он наказывал людей по-настоящему, никто не выдержал бы Его суда" и ты кидаешь "Да, да, красиво и интересно", а потом просто отбрасываешь и ничего не теряешь. А может это ошибка, кто знает. Но да, древность и размах - копаться в этом можно десятками и десятками лет
>любое научное знание, которое открыто, уже включено в католическое описание реальности
>уже включено
Если неявно, то да.
Но "официальное признание", как правило, происходит очень нескоро. Но зато уж если и когда происходит, то основательно, а не как дань моде.
>Вообще какое мировоззрение является самым полным, всеобъемлющим, последовательным в своем объяснении реальности?
Такого нет. Либо давай определение что такое "полное и всеобъемлющее".
>И выводится ли из него этика?
Зависит от определения.
>задает ориентиры для человеческого существования, дает опору, осмысливает, наделяет мир ценностями?
Опять же для каждого этого понятия нужно определение. Возможно, несколько.
Почему именно католичество? Почему не языческая философия греко-римлян раз уж мы в фалософаче, а не ррееелигаче
Христианство крайне интеллектуально скудно само по себе. По сути оно заключается лишь в Евангелионе. Там Синдзи дрочил и покаялся
Естественного права не существует в природе там существует только право силы, лол. Это человеческое изобретение, названное некорректно.
>>4988
Я слышал, католики и катехизис инопланетян всерьез обсуждают. Забавные ребята.
https://youtube.com/shorts/MvJk5LNzSNs?si=M3BHRFM1fcx5c2Py
Какие трудности у трудной проблемы?
Потому что реквестилось самое полное, всеобъемлющее и последовательное мировоззрение.
Тут как с языками программирования. По универсальности всех уделывает C++. При всей его тяжеловесности, любой другой язык превосходит его только в отдельных аспектах. И это только в лучшем случае.
>названное некорректно
Это ты мне типа с позиции силы диктуешь, или все же апеллируешь к некоему здравому смыслу?
>названное некорректно
Сильному и права не нужны дуракам закон не писан.
Я имею в виду, что христианство отличается от других мировоззрений пониманием Бога как Троицы, а также учением о Воплощении Одного из Лиц Троицы. То есть Сам Бог, пришедший в мир, считается Откровением. В таком случае и мир тоже может считаться естественным откровением, как бы одежды Воплотившегося Бога.
У суфиев была история про человека на необитаемом острове, который изучил природу и в результате посредством размышлений пришел к идее Творца. Но с христианской точки зрения такое знание о Творце будет неполным. А полнота этого знания (та, которая достижима для людей) обретается через Откровение Бога.
Лев - дурак? А тиран, успешно попирающий твои иллюзорные "естественные права"?
>пониманием Бога как Троицы
Святой Дух есть и в Танахе/Торе, прямо с самых первых страниц. А Сын предсказан, но не признан иудеями лишь в своем конкретном воплощении.
Про провидение в "Дюне" Фрэнка Герберта охуенно написано. Всем советую обязательно первые две книги в переводе Вязникова, если не хотите оригинал.
Хрюс, спок.
> А Сын предсказан, но не признан иудеями
К слову, Он там и не признан-то не из-за неполноты, а как раз наоборот, из-за того, что превзошел приземленные ожидания.
>нет хороших решений
пока нет
сначала надо разобраться, как работает мозг
разберёмся, прогресс есть, динамика положительная
В идеале каждая система взглядов стремиться объяснить (в т.ч. принять за аутентичный или отвергнуть) вообще любой человеческий опыт. Религии дают оценку опыту (естественный он или сверхъестественный; если сверхъестественный, то какой именно, ведь в религиозных системах существуют представления о демонических влияниях), наука, философия, различные системы (традиционализм, юнгианство, психоанализ и т.д.).
>прогресс есть, динамика положительная
Это про легкие проблемы, а не трудная.
И то, у мозговедов бомбит, что их проблемы называют "легкими".
>Меня никуда не вывело
На каком уровне - разум или сердце? Религиозные системы тебя не убедили или ты не уверовал?
>и ничего не теряешь
Если рассуждать с точки зрения религиозного человека, то теряешь очень многое. В смысле вообще все, утрачиваешь то, ради чего ты создан.
Если с твоей точки зрения, то как минимум теряешь смысл, полноту, которую он придает жизни верующего.
>Такого нет. Либо давай определение что такое "полное и всеобъемлющее".
Максимально возможно полное и всеобъемлющее. Объясняющее (собирающее воедино в общую непротиворечивую систему) все, что мы знаем о реальности. Каждый феномен.
Я не знаю, почему он выбрал католичество, но философия греко-римлян пыталась стать такой мировоззренческой системой. Вроде бы неоплатоники были вполне верующими, но их взгляды были синкретичными. Поэтому их философия закончилась, потому что все, кто мог бы ее придерживаться, перешли в христианство, где нашли примерно то же самое (красивое идеалистическое описание мира, объясняющее многое, ценности, этику), только больше. Поэтому неоплатонизм если и перерождался, то в виде традиционализма или христианского неоплатонизма -
https://www.theophaneia.org/reading-list/
Я говорю про то, что этим пониманием обладают те, кто пережили библейский опыт или знакомы с Писанием. Другие просто могут прийти к пониманию существования Бога, но не будут обладать достижимой полнотой знания о Нем.
>>Но где философы берут аксиомы, вернее, как их выбирают?
>В природе.
Это похоже на шизу "аналит-ческую", причём "не строгую".
При чём здесь природа? Природа чего? И на что намекается этой отсылкой?
 295 Кб, 700x394
295 Кб, 700x394>>5013
>пока нет
И не будет.
>сначала надо разобраться, как работает мозг
При чём здесь мозг? Речь идёт сознании. Раз ты их отождествляешь - значит, никакой проблемы у тебя нет.
>разберёмся, прогресс есть, динамика положительная
Ты разберёшься? Ты уже разобрался, сам того не замечая. Твои предшественники были благоразумнее.
>верующего не переубедить
Никто тебя и не переубеждает, это ты убеждаешь других и себя, что всего лишь инструмент и функция, марионетка природы.
Просто на то, что человеческие права - внезапно человеческое изобретение. И все. Камень есть в природе, вода есть, хищники и жертвы тоже. А прав нет.
А разве кто-то успел пруфнуть, что сознание (любая мыслительная активность) может существовать где-то вне мозга?
мимо
У тебя в наличии ничего нет, в чем можно было бы убеждать. Нет даже ни одной удовлетворительной гипотезы.
>будет, потом, как-нибудь, само собой
Ты тут и есть в положении верующего.
а) Из твоего "плана действий" не просматривается желаемый результат. Ты полагаешься не на свои силы, а на некую высшую силу.
б) Больше того, ты надеешься на благосклонность высшей силы.
 295 Кб, 700x394
295 Кб, 700x394Какие права? Я ничего о правах не говорил, ты наверное спутал меня с кем-то другим. Да, права существуют в пространстве культуры, конечно. По крайней мере только так мы можем узреть их воочию.
>>5023
Речь была не про отсылки к доказательствам, а о проблеме. У тебя, похоже, такое же отношение к ней, как и и предыдущего - небрежное, скоропалительное, тянущееся к прокрустовому ложу. Напрасно.
В философии преобладает агональность, состязательность. Не складывается серьезных, постоянных традиций мышления. Философы: не принимают друг друга, отторгают, мыслят широкими обобщениями, аффектами, не промысливают и не переживают высказываемое оппонентом. Отсюда безостановочная смена тенденций и мод.
Философия не мыслится как дело поколений, не проецируется вперед в будущее. Философ стремиться высказаться, вместо того, чтобы выучиться. Философу нужно быть очень обеспеченным и иметь много свободного времени, чтобы реально и всерьез ознакомиться с историей философии. Делез имел много денег, это позволило ему неспешно осваивать наследие Спинозы, Лейбница, Юма, Канта, Бергсона. Делез позволил себе то, что может позволить себе христианский монах в отношении авторов собственной традиции.
Религиозная традиция мирна и органична, в ней нет воли к новизне, но есть постепенное ткание мысли не ради различия, а во имя истины. Отдаленные подобия в философии — сообщества платоников в древности и марксистов в XX столетии. Первые постепенно дошли до обращения в христианство, проекты вторых обернулись катастрофой и геноцидом. Философия, развернувшаяся на уровне поколений, либо приводит ко Христу, либо выращивает чудовищ.
Когда философствование перестало быть уделом отшельников-аскетов и аристократов (два противоположных полюса в типологии человеческих судьб), то традиционная философия закончилась.
Философ отвык от монотонности и длительного обучения. В университете ему показывают в сжатом виде ретроспективу тысяч лет истории мысли и тут же приглашают участвовать в производстве нового философского знания. Почему и стоит уважать ставших вместо философов историками философии. Они доучиваются, восполняют то, что по-хорошему им должны были дать, но кто?
>При чём здесь мозг?
сознание происходит в мозге, ничто не указывает на обратное
>ты их отождествляешь
это враньё, я их не отождествляю
мозг — это физический объект
сознание — процесс в мозге
бывает мозг без сознания (например в фазе медленного сна)
>Ты разберёшься?
нет, нейрофизиологи
>>5024
>У тебя в наличии ничего нет
есть "Когнитом" Анохина
на гипотезу вполне тянет
>само собой
ложное цитирование, демагогия. Не стыдно?
>Ты полагаешься не на свои силы, а на некую высшую силу.
это враньё, я полагаюсь на людей, изучающих мышление
>ты надеешься на благосклонность высшей силы
это тоже враньё, перестань пожалуйста
>>5030
>проекты вторых
>у марксистов — зависть и деконструкция
Твоя предвзятость поражает. На фоне остального разительный контраст. Такое можно сказать о любой философии/идеологии, акцентированной на переустройстве общественного уклада и построения утопий или же антиутопий.
>состязательность
В реалиях прозелитизм не слишком способствует "несостязательности".
>Религиозная традиция мирна и органична, в ней нет воли к новизне
Потому что трансцендентное вневременно и внеположено в целом. Насчёт институциональности и связанных с ней тенденций и "мод"(?) такого не скажешь.
>В средние века мышление было включено в цикл служб, праздников, чтений, проповедей.
Определи мышь лени.
Через отрешённость. Постепенное угасание аффекта как реакции.
Чтобы тебя вообще ничего в перспективе не шелохнуло. Тогда как минимум рябь чувственного уляжется и ты будешь видеть яснее.
Чувство это же растяжимое понятие, как в смысле эмоций и ощущений, так и в смысле контакта с чем-либо (вижу, осязаю, осознаю что-то, того же себя как чистое присутствие без качеств). Единственный непосредственный контакт у тебя есть только с ощущением своего бытия. Через него ты можешь слиться с бытием всего остального.
А чтобы выйти и из этого, в теории, необходимо отбросить любую ангажированность, любое предпочтение, как создающее ложные дихотомии. Особенно язык и логистику языкового мышления (семантика).
И когда люди в рамках адвайты это проделывают, то свидетельствуют ощущение сродни постоянному падению в бездну и утрате ориентиров. То есть какой-то якорь тела, голоса и прочего у них остаётся, но обычно они кое-как пытаются объяснить, что их как таковых нет, а есть только некое бытие без границ. А факты о себе, обычно у людей глубоко персональные для них не важнее пожелтевшей газетной вырезки, случайно принесённой ветром на уровень взгляда.
Что можно узнать/понять через эти вещи?
>>5040
Звучит как отказ от познания. Или самоубийство разума/сознания.
Для меня кажется одним, и ощущение органом и познание. Поэтому не понятно когда кто-то с высока смотрит на чувства, типа есть какойто сигнал от бога/мира в обход органов - это познание, а есть органы чувств это обман.
Ты свидетельствовал это падение и утрату? Такой человек больше не думает? Не думает про "я", "они" ?
 1,3 Мб, 1920x800
1,3 Мб, 1920x800Где-то мне это уже встречалось. Столь характерный стиль и интенции всё те же на тему проблемы с её предметом. И суть всё та же - небрежное, скоропалительное желание вогнать её в прокрустово ложе. Раз тебя это так прельстило, то оставайся всего лишь инструментом и функцией, марионеткой природы.
>это враньё, я их не отождествляю
Твоя претенциозность умилительна, но оправданием послужить не сможет.
>>5039
Праздный интерес и проекции, которые ты столь гордо демонстрируешь, чем-то серьёзным не являются. Посему вопрос твой неуместен. Тем более что в ответе ты и не нуждаешься.
>Что можно узнать/понять через эти вещи?
Предметы, которые не попадают в индрию глаза и т.д. Например, загробный мир или доказательство теоремы.
 1,3 Мб, 1920x800
1,3 Мб, 1920x800Ну это уже чистой воды проекции. Тебе стоит поискать кого-нибудь другого, кто откликнется на столь дешёвую манипуляцию. А сказать тебе и вправду нечего и незачем, как ни парадоксально. Поэтому и остаётся только обходиться "классическим переходом". Часто посещал в детстве секцию "Адхоминем"?
>Звучит как отказ от познания. Или самоубийство разума/сознания.
От опосредованного словами и символами культуры познания.
>Или самоубийство разума/сознания.
Вряд-ли. Только если иллюзий о себе, идентичностей, приделанных социумом, школой, в общем воспитанием.
>Для меня кажется одним, и ощущение органом и познание.
И да, и нет. Мы конструируем всё, что видим. Из внимания обычно выпадает то, ч о якобы не важно, а также то, что мы не ожидаем увидеть, что слишком неестественно для наших чувств и разума (гиперобьекты те же или что-то совсем вне нашего социо-культурного умвельта, антропоцентрического праксиса).
>Поэтому не понятно когда кто-то с высока смотрит на чувства, типа есть какойто сигнал от бога/мира в обход органов - это познание, а есть органы чувств это обман.
В теории наши чувства и мысли это только дифференциация такого сигнала изначального, вдобавок искажённая ожиданиями, страхами и прочим.
Поэтому некоторые направляют себя к как бы склеиванию разбитого зеркала, делающего чувства и познание фасеточным. Видение-восприятие некого Дао, динамичного и большого внечуственного/сверхчувственного. Соответственно, отказ от реагирования на раздражители, своеобразная стоическая апатия на саксималках, позволяет не ёбнуться от восприятия чего-то, что без приучения себя не реагировать оплавило бы ебало интенсивностью, так сказать.
>Ты свидетельствовал это падение и утрату? Такой человек больше не думает? Не думает про "я", "они" ?
Воочию нет, только видео со всяких сатсангов, что мне напоминали некоторые мои состояния.
Но я вообще будто в диссоциации/деперсонализации по умолчанию, сколько себя помню. Плохие границы между собой и миром, другими людьми. Чи гиперэмпатия, чи какие-то недоразвитые психические инстанции.
Слишком легко сливаюсь с объектом наблюдения, из-за чего и другие мне видятся заложниками мимесиса, который Маклюэн назвал нарциссическим трансом.
Типа как когда ща рулём сливаешься с функцией, текущими габаритами, инерцией и так далее, как в игре забываешь обо всём ином, только в глобальном масштабе. Когда игры вообще не осознаются, а разные медиумы (посредники, в том числе символы) кажутся частью тебя или ты воспринимаешь себя частью их и они тобой "виляют".
Если смотреть просто перед собой на ту же комнату, то через какое-то время можно наблюдать, как смысловой уровень дезинтегрируется, внутренний интерпретатор перестаёт лепить на всё ярлыки и создавать нарративы. И вот тогда как раз начинается преддверие того, что я подразумеваю.
Одни современные медиаторы, которые практикуют технологичный подход к этому делу в рамках психонетики, называют это деконцентрацией в противовес концентрации. Последняя постоянно трактует, выделяет фон и объект, лепит ярлыки, городит повествования. Более "левополушарный" стиль восприятия. Вторая же воспринимает целостно и без интерпретации. У них же, как я понял, есть ещё техника к выходу в третье состояние вне этой дуальности. Как бы трансцендентное восприятие. Вот его я ещё не проживал. Моё эго высаживается на измену при остановке усилий. Для него это смерть (излишняя инаковость, границы понимания, кажущаяся дезинтеграция). Потому что тут мимесис кажется невозможным, шизофреничным, все равно что осознать себя полкило даже не картошки, а просто полкило без обозначаемого опыта за ним.
>Звучит как отказ от познания. Или самоубийство разума/сознания.
От опосредованного словами и символами культуры познания.
>Или самоубийство разума/сознания.
Вряд-ли. Только если иллюзий о себе, идентичностей, приделанных социумом, школой, в общем воспитанием.
>Для меня кажется одним, и ощущение органом и познание.
И да, и нет. Мы конструируем всё, что видим. Из внимания обычно выпадает то, ч о якобы не важно, а также то, что мы не ожидаем увидеть, что слишком неестественно для наших чувств и разума (гиперобьекты те же или что-то совсем вне нашего социо-культурного умвельта, антропоцентрического праксиса).
>Поэтому не понятно когда кто-то с высока смотрит на чувства, типа есть какойто сигнал от бога/мира в обход органов - это познание, а есть органы чувств это обман.
В теории наши чувства и мысли это только дифференциация такого сигнала изначального, вдобавок искажённая ожиданиями, страхами и прочим.
Поэтому некоторые направляют себя к как бы склеиванию разбитого зеркала, делающего чувства и познание фасеточным. Видение-восприятие некого Дао, динамичного и большого внечуственного/сверхчувственного. Соответственно, отказ от реагирования на раздражители, своеобразная стоическая апатия на саксималках, позволяет не ёбнуться от восприятия чего-то, что без приучения себя не реагировать оплавило бы ебало интенсивностью, так сказать.
>Ты свидетельствовал это падение и утрату? Такой человек больше не думает? Не думает про "я", "они" ?
Воочию нет, только видео со всяких сатсангов, что мне напоминали некоторые мои состояния.
Но я вообще будто в диссоциации/деперсонализации по умолчанию, сколько себя помню. Плохие границы между собой и миром, другими людьми. Чи гиперэмпатия, чи какие-то недоразвитые психические инстанции.
Слишком легко сливаюсь с объектом наблюдения, из-за чего и другие мне видятся заложниками мимесиса, который Маклюэн назвал нарциссическим трансом.
Типа как когда ща рулём сливаешься с функцией, текущими габаритами, инерцией и так далее, как в игре забываешь обо всём ином, только в глобальном масштабе. Когда игры вообще не осознаются, а разные медиумы (посредники, в том числе символы) кажутся частью тебя или ты воспринимаешь себя частью их и они тобой "виляют".
Если смотреть просто перед собой на ту же комнату, то через какое-то время можно наблюдать, как смысловой уровень дезинтегрируется, внутренний интерпретатор перестаёт лепить на всё ярлыки и создавать нарративы. И вот тогда как раз начинается преддверие того, что я подразумеваю.
Одни современные медиаторы, которые практикуют технологичный подход к этому делу в рамках психонетики, называют это деконцентрацией в противовес концентрации. Последняя постоянно трактует, выделяет фон и объект, лепит ярлыки, городит повествования. Более "левополушарный" стиль восприятия. Вторая же воспринимает целостно и без интерпретации. У них же, как я понял, есть ещё техника к выходу в третье состояние вне этой дуальности. Как бы трансцендентное восприятие. Вот его я ещё не проживал. Моё эго высаживается на измену при остановке усилий. Для него это смерть (излишняя инаковость, границы понимания, кажущаяся дезинтеграция). Потому что тут мимесис кажется невозможным, шизофреничным, все равно что осознать себя полкило даже не картошки, а просто полкило без обозначаемого опыта за ним.
>Идеальное - это реальное, за вычетом неприятного.
Проблема в том, что это не единственное определение. Мы можем сказать в рамках данного определения, что идеальный слиток золота - это золото на 100%, без примесей. Идеальная прямая линия на 100%, без кривизны. И так далее.
>Идеально: значит, только часть всей картины. Вовсе не целое.
А это уже вообще другой смысл. В процессе познания мы строим "гладкую" модель методом аппроксимации, то есть упрощаем и выкидываем все "шероховатости".
Этих смыслов очень дохуя, и вроде бы все они про одно и то же, потому что одно и тоже слово используется, но на самом деле у всех авторов начинаются эквивокации, и по существу вообще невозможно разобраться в том, что они имеют в виду. Платон/Сократ вообще не имел в виду под идеальным золотом никакой физический объект.
С таким словарём никакое строгое и нестрогое мышление невозможно, на выходе будет получаться туманное говно и не более того.
Это приемлемо в художеством произведении, все эти тройные, четверные итд интерпретации. Для так называемого философского текста вся эта неоднозначность означает, что попросту написана хуита.
В том-то и дело, что сказанное - это хуита, просто по определению. Это как в том анекдоте:
Разговаривают два программиста:
- Вчера у меня, прикинь, мамка умерла, всю ночь с ней трахался, хоть бы пискнула!!!
Здесь присутствует двойная интерпретация, двойной смысл, что и создаёт комический эффект. В хорошем художеством произведении будут все эти двойные, тройные, четверные и так далее смыслы. Во времена разделения на вульгарную, народную культуру и высокую культуру аристократия годами обучалась потреблять все эти слоёные пироги смыслов. Считается, что в модерне с возникновением массового образования и наций эти две культуры слились.
В случае же философского, а не художественного теста, вся эта туманная неоднозначность говорит только о том, что написана хуита. О том, что автор либо не имеет мыслей, либо же их не может выражать.
>μῦθος
Миф это вообще про другое, в изначальном смысле этого слова. В современном обществе тоже есть мифы. Например, золушка. Например, фильм «Красотка» (англ. Pretty Woman). Это такая интерпретация сказки о золушке, если кратко сказать, из грязи в князи. Люди, а в частности женщины, живут по этому мифу, то есть верят в него. Причём изначально у сказки про золушку была другая интерпретация, другой смысл, что золушка изначально по крови, по происхождению была аристократкой, а в конце торжествует справедливость, что она получает то, что ей положено по праву, после все перепетий.
Это не он писал, что устал, а я. Правда, утомляет твоя писанина. Без обид.
Ты вроде тред свой создавал, почему не пишешь там, а здесь?
Так а философия где появилась? Она не появлялась в полисах по типу Спарты, но в торговых полисах по типу Афин. Фундамент такого рода коллективной деятельности людей как философия заключался в следующем. Это морская торговля. Такой роди древних жидов как финикийцы переняли сакральное иероглифическое письмо египтян, но использовали его как алфавитное письмо для ведения своей бухгалтерии, совершенно десокрализованной. А затем его переняли греки, добавили гласные буквы, и получилось современное фонетическое письмо. Это дало широкий доступ к образованию, а образование использовалось для морской торговли, ремесла и прочих чисто утилитарных нужд. В полисах по типу Спарты такой хуйни никак не могло быть. А по типу Афин было. По древнегреческим понятиям всё таки заводчанин был ближе к рабам, а свободный грек работал на себя и на свою семью. Но образование и вся инфраструктура образования им нужна была (и возникла) именно для практического применения. А философия возникает поверх этой инфраструктуры. Вот как полисы воюют между собой, и физически сильный мужчина является добродетельным потому что является хорошим воином, а воины нужны полису, и здесь сходятся интересы и самого гражданина полиса, и полиса как коллектива. А потом происходит перенос мотива на цель, и физическое совершенствование становится самоцелью, возникают соревнования, то есть спорт, и так далее. Так же и с философией, образование как самоцель, но возникшее и существующее внутри образования как практической необходимости морской торговли.
Я считаю, что с гибелью такой формы организации человеческих сообществ как греческий торговый полис по типу Афин, философия тоже перестаёт существовать.
>Но тогда "выходит" (из пещеры) Заратустра и побеждает христиан
Не знаю, где это так, но точно не в России.
> я напомню, что иудеи отрицают Христа и христианство
> это ложный мессия
я тебе напомню что такое софизм. это когда рядом ставишь правду и ложь маскируя ложь под правду. из 1го 2ое не следует. евреи Его не приняли потому что Он оказался слишком крут относительно их ожиданий + их гордыня сыграла роль. если ты изучишь то как Мессия пророчествуется в Ветхом Завете и сравнишь с Личностью Христа то поймешь что это не христианство откололось от иудаизма а наоборот, иудаизм откололся от христианства.
Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более (Иер.31:31-34).
> Это - инстинкт
расскажешь из какого инстинкта вытекают заповеди по типу "не вожделей", "не ненавидь" и тд?
> что заметно по типически присущим священникам преступлениям
по фашистам значит Ницше судить нельзя а христианство по педофилам можно? ты не философствуешь а лицемерствуешь
> т.к. отрицает разум
разум не отрицается. отрицается возможность познания истины сухим разумом. у Достоевского например сухой разум олицетворяет Иван Карамазов. или как писал Блаженный Августин “Crede ut intelligas” — «Верь, чтобы понимать».
разум - это лишь один из аспектов человеческой души и пытаться что-то познать лишь разумом - это как пытаться познать вкус блюда одними только глазами
твою телегу про философствование богов я не понял. возможно тебе надо ее яснее сформулировать или я тупой. пока у тебя аргументы очень слабые
> я напомню, что иудеи отрицают Христа и христианство
> это ложный мессия
я тебе напомню что такое софизм. это когда рядом ставишь правду и ложь маскируя ложь под правду. из 1го 2ое не следует. евреи Его не приняли потому что Он оказался слишком крут относительно их ожиданий + их гордыня сыграла роль. если ты изучишь то как Мессия пророчествуется в Ветхом Завете и сравнишь с Личностью Христа то поймешь что это не христианство откололось от иудаизма а наоборот, иудаизм откололся от христианства.
Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более (Иер.31:31-34).
> Это - инстинкт
расскажешь из какого инстинкта вытекают заповеди по типу "не вожделей", "не ненавидь" и тд?
> что заметно по типически присущим священникам преступлениям
по фашистам значит Ницше судить нельзя а христианство по педофилам можно? ты не философствуешь а лицемерствуешь
> т.к. отрицает разум
разум не отрицается. отрицается возможность познания истины сухим разумом. у Достоевского например сухой разум олицетворяет Иван Карамазов. или как писал Блаженный Августин “Crede ut intelligas” — «Верь, чтобы понимать».
разум - это лишь один из аспектов человеческой души и пытаться что-то познать лишь разумом - это как пытаться познать вкус блюда одними только глазами
твою телегу про философствование богов я не понял. возможно тебе надо ее яснее сформулировать или я тупой. пока у тебя аргументы очень слабые
>Здесь встречаются все
Здесь встречаются разные люди для общения. Самый простой способ общения – задавать вопросы и давать ответы. Постить пасты это очень хуевый способ общения
твое указание на Сократа ничего мне не объяснило потому что для меня Сократа убила демократия а не "Совращение молодёжи". как писал Платон а не как думал Ницше
имхо он нужен хотя бы тем что прививает стороннему наблюдателю неприязнь к нигилизму
“Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? – и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его?Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!”
Старая теологическая проблема «веры» и «знания» — или, яснее, инстинкта и разума — то есть вопрос о том, заслуживает ли инстинкт в оценке вещей большего авторитета, чем рациональность, которая требует, чтобы суждение и действие основывались на причинах, на «почему?», а не на целесообразности и пользе, — все еще остается той старой моральной проблемой, какой она впервые появилась в лице Сократа и разделенных умов задолго до христианства. Сам Сократ, с его вкусом таланта — таланта превосходного диалектика — изначально встал на сторону разума; и, по правде говоря, что он делал всю свою жизнь, как не смеялся над неловкой некомпетентностью своих благородных афинян, которые, как все благородные люди, были людьми инстинкта и никогда не могли предоставить достаточной информации о причинах своих действий? Но в конце концов, тихо и тайно, он посмеялся над собой: он обнаружил в себе, перед своей более утонченной совестью и самоанализом, ту же самую трудность и неспособность. Но зачем, сказал он себе, отстраняться от инстинктов ради этого! Нужно помогать им и рассуждать, чтобы быть правым, нужно следовать инстинктам, но убеждать разум помогать им вместе с хорошими рассуждениями. В этом была настоящая ложь этого великого, таинственного ирониста; он довел свою совесть до того, что она довольствовалась своего рода самообманом: в сущности, он разглядел иррациональность в моральном суждении. Платон, более невинный в таких вопросах и без лукавства плебея, хотел доказать себе, затратив все свои силы — величайшие силы, которые когда-либо приходилось проявлять философу! — что разум и инстинкт естественным образом движутся к одной цели, к добру, к «Богу»; и со времен Платона все теологи и философы были на том же пути — то есть в вопросах морали инстинкт, или, как называют его христиане, «вера», или, как называю его я, «стадо», до сих пор торжествовали. Оставалось бы исключить Декарта, отца рационализма (и, следовательно, дедушку революции), который признавал авторитет только разума: но разум — это всего лишь инструмент, а Декарт был поверхностен.
["grundsätzliche nihilismus" и его разрешение: "Denn ich liebe dich, oh Ewigkeit!"]
Если некогда я простирал над собой тихое небо и на собственных крыльях стремился в свои небеса;
– если, играя, я плавал в глубинах света, и птица-мудрость прилетала к свободе моей;
– и говорила мне так: "Взгляни, нет ни верха, ни низа! Всюду взмывай, вверх ли. вниз ли, – ты легкий! Пой! Перестань говорить!
– разве все слова не для тех, кто тяжел? Не лгут ли они тому, кто легок? Пой! Перестань говорить!":
– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!
Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!
Ибо я люблю тебя, о Вечность!
Если "проблема Сократа" для Ницше ясна, то "проблема Ницше" по той же самой схеме характеризуется так: "копая" "вглубь", внутрь ("Среди стервятников"), и доходя до "инстинктов", мы все внезапно обнаруживаем, что "верх" (сознание, абстракции, логика, "небо" и т.д.) и "низ" (бессознательное, искусство, мифы, "континентальная философия" и т.д.) - одинаковы. И что посреди откровения и познания нет никакой разницы. (Кольцо замыкается: "вечное возвращение", к исходной реальности. ("... горы — это не горы, а реки — это не реки. Но теперь, когда я постиг саму суть, я спокоен. Просто я снова вижу, что горы — это горы, а реки — это реки."))
"Инстинкт" и "разум", прежде всего и "априори", конечно, не движутся к одной и той же цели, но они могут двигаться к одной и той же цели, т.е. философствовать, ориентируясь в мышлении, по результату и цели (телеология = mirror neurons) одинаково (либо "согласованно", т.е. что по сути то же самое), в одном и том же направлении. Суть того, что они постигают, впрочем, одна и та же (бытие).
Соответственно, возможно либо инстинктивное совершенство (пример: интуиция, угадывание), либо совершенство разума (пример: логика, дедукция), либо и то, и другое, сообразно целям. И вот эти "цели", по существу ситуации, "богами" и являются: они и философствуют, т.е. устанавливают формы (разума, инстинкта, тела, поведения, и т.д.). Вопрос остаётся только в том, как оценить всю эту реальность, и как поступать целесообразно, учитывая, что сомневаться можно даже в целях?
Вы — только мосты: пусть высшие перейдут через вас! Вы — ступени: так не гневайтесь на того, кто восходит над вами на свою высоту!
Из вашего семени однажды может вырасти и для меня истинный сын и совершенный наследник: но это далеко. Вы сами — не те, кому принадлежит мое наследие и имя.
Я не жду вас здесь, в этих горах, и не могу я спуститься с вами в последний раз. Вы пришли ко мне только как знак того, что высшие уже на пути ко мне, —
— не люди великой тоски, великого отвращения, великой усталости и того, что вы назвали остатком Бога.
— Нет! Нет! Трижды нет! Я жду других здесь, в этих горах, и не уйду без них,
— высших, более сильных, более победоносных, более веселых, тех, кто сложен прямолинейно [гармонично] телом и душой: смеющиеся львы должны прийти!
О, мои хозяева, вы странные, разве вы еще ничего не слышали о моих детях? И что они на пути ко мне?
Расскажите мне о моих садах, о моих блаженных островах, о моем прекрасном новом пути — почему вы не говорите мне о них?
Я прошу этого дара у вашей любви, чтобы вы говорили мне о моих детях. Для этого я богат, для этого я стал бедным: чего бы я не отдал?
— чего бы я не отдал, чтобы иметь одно: этих детей, эту живую плантацию, эти деревья жизни моей воли и моей высшей надежды!....
“Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? – и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его?Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!”
Старая теологическая проблема «веры» и «знания» — или, яснее, инстинкта и разума — то есть вопрос о том, заслуживает ли инстинкт в оценке вещей большего авторитета, чем рациональность, которая требует, чтобы суждение и действие основывались на причинах, на «почему?», а не на целесообразности и пользе, — все еще остается той старой моральной проблемой, какой она впервые появилась в лице Сократа и разделенных умов задолго до христианства. Сам Сократ, с его вкусом таланта — таланта превосходного диалектика — изначально встал на сторону разума; и, по правде говоря, что он делал всю свою жизнь, как не смеялся над неловкой некомпетентностью своих благородных афинян, которые, как все благородные люди, были людьми инстинкта и никогда не могли предоставить достаточной информации о причинах своих действий? Но в конце концов, тихо и тайно, он посмеялся над собой: он обнаружил в себе, перед своей более утонченной совестью и самоанализом, ту же самую трудность и неспособность. Но зачем, сказал он себе, отстраняться от инстинктов ради этого! Нужно помогать им и рассуждать, чтобы быть правым, нужно следовать инстинктам, но убеждать разум помогать им вместе с хорошими рассуждениями. В этом была настоящая ложь этого великого, таинственного ирониста; он довел свою совесть до того, что она довольствовалась своего рода самообманом: в сущности, он разглядел иррациональность в моральном суждении. Платон, более невинный в таких вопросах и без лукавства плебея, хотел доказать себе, затратив все свои силы — величайшие силы, которые когда-либо приходилось проявлять философу! — что разум и инстинкт естественным образом движутся к одной цели, к добру, к «Богу»; и со времен Платона все теологи и философы были на том же пути — то есть в вопросах морали инстинкт, или, как называют его христиане, «вера», или, как называю его я, «стадо», до сих пор торжествовали. Оставалось бы исключить Декарта, отца рационализма (и, следовательно, дедушку революции), который признавал авторитет только разума: но разум — это всего лишь инструмент, а Декарт был поверхностен.
["grundsätzliche nihilismus" и его разрешение: "Denn ich liebe dich, oh Ewigkeit!"]
Если некогда я простирал над собой тихое небо и на собственных крыльях стремился в свои небеса;
– если, играя, я плавал в глубинах света, и птица-мудрость прилетала к свободе моей;
– и говорила мне так: "Взгляни, нет ни верха, ни низа! Всюду взмывай, вверх ли. вниз ли, – ты легкий! Пой! Перестань говорить!
– разве все слова не для тех, кто тяжел? Не лгут ли они тому, кто легок? Пой! Перестань говорить!":
– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!
Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!
Ибо я люблю тебя, о Вечность!
Если "проблема Сократа" для Ницше ясна, то "проблема Ницше" по той же самой схеме характеризуется так: "копая" "вглубь", внутрь ("Среди стервятников"), и доходя до "инстинктов", мы все внезапно обнаруживаем, что "верх" (сознание, абстракции, логика, "небо" и т.д.) и "низ" (бессознательное, искусство, мифы, "континентальная философия" и т.д.) - одинаковы. И что посреди откровения и познания нет никакой разницы. (Кольцо замыкается: "вечное возвращение", к исходной реальности. ("... горы — это не горы, а реки — это не реки. Но теперь, когда я постиг саму суть, я спокоен. Просто я снова вижу, что горы — это горы, а реки — это реки."))
"Инстинкт" и "разум", прежде всего и "априори", конечно, не движутся к одной и той же цели, но они могут двигаться к одной и той же цели, т.е. философствовать, ориентируясь в мышлении, по результату и цели (телеология = mirror neurons) одинаково (либо "согласованно", т.е. что по сути то же самое), в одном и том же направлении. Суть того, что они постигают, впрочем, одна и та же (бытие).
Соответственно, возможно либо инстинктивное совершенство (пример: интуиция, угадывание), либо совершенство разума (пример: логика, дедукция), либо и то, и другое, сообразно целям. И вот эти "цели", по существу ситуации, "богами" и являются: они и философствуют, т.е. устанавливают формы (разума, инстинкта, тела, поведения, и т.д.). Вопрос остаётся только в том, как оценить всю эту реальность, и как поступать целесообразно, учитывая, что сомневаться можно даже в целях?
Вы — только мосты: пусть высшие перейдут через вас! Вы — ступени: так не гневайтесь на того, кто восходит над вами на свою высоту!
Из вашего семени однажды может вырасти и для меня истинный сын и совершенный наследник: но это далеко. Вы сами — не те, кому принадлежит мое наследие и имя.
Я не жду вас здесь, в этих горах, и не могу я спуститься с вами в последний раз. Вы пришли ко мне только как знак того, что высшие уже на пути ко мне, —
— не люди великой тоски, великого отвращения, великой усталости и того, что вы назвали остатком Бога.
— Нет! Нет! Трижды нет! Я жду других здесь, в этих горах, и не уйду без них,
— высших, более сильных, более победоносных, более веселых, тех, кто сложен прямолинейно [гармонично] телом и душой: смеющиеся львы должны прийти!
О, мои хозяева, вы странные, разве вы еще ничего не слышали о моих детях? И что они на пути ко мне?
Расскажите мне о моих садах, о моих блаженных островах, о моем прекрасном новом пути — почему вы не говорите мне о них?
Я прошу этого дара у вашей любви, чтобы вы говорили мне о моих детях. Для этого я богат, для этого я стал бедным: чего бы я не отдал?
— чего бы я не отдал, чтобы иметь одно: этих детей, эту живую плантацию, эти деревья жизни моей воли и моей высшей надежды!....
Так Говницше вроде и не нигилист, хотя со стороны выглядит так.
 33 Кб, 1068x566
33 Кб, 1068x566>есть "Когнитом" Анохина
Есть. На жопе шерсть. И то клочками.
Кстати Анохина я же сюда и принес впервые и форсил его тут.
Ты полагаешься на высшую силу и надеешься на ее благосклонность.
И твои
>ВРЁТИ
делают это только более очевидным.
 4,2 Мб, 3000x4103
4,2 Мб, 3000x4103>>174915
> Надо самому себе дать испытания, чтобы доказать, что ты предназначен для независимости и власти;
Не КАЖДЫЙ предназначен. И "испытания" тут идеализированы. Тогда все старики и старушки на улицах были бы предназначены для власти и были бы самыми сильными. Если ты с чем-то справился в один раз - ен значит, что сможешь справиться в соедующий. Напротив, чем старше человек, чем больше он пережил, тем больше он надут компиумом, который оправдывает все его ошибки и существование.
> Не цепляться за
Да, я даже это выписал себе. Но разве это не выглядит как нигилизм? Я бы больше ожидал чего-то такое от Чорана
> не становиться в целом жертвой какой-то отдельной стороны самих себя
О да, как люди, которые пультивируют в себе "травмы".
> Нужно уметь сохранять себя: величайшее испытание независимости.
С одной стороны - быть щедрым, не стяжательствовать, и расточать или иррационально тратить, сжигать (как у Батая или Ланда), то сохранять себя. А что такое "я"? Если это система копиума? Или это относится только к богатым душам?
>>174918
> т.е. надо уметь видеть, кто говорит, а не только то, что говорится
Сократ не прав потому что он урод
У меня знакомый коммунист, так же, когда я зачитываю цитату какого-нибудь Эволы, вопит "КТО ЭТО ПОНАПИСАЛ", чтобы перевести фокус на обсмеивание автора.
> Наши реальные переживания совсем не разговорчивы.
Опять же, часто встречал эту цитату, но не согласен из-за личного опыта. Есть разные люди, и говорить что все "держат в себе", а не выплёскивают (как дети) - ошибаться
>>174919
> Аналогично: нужно уметь противостоять соблазну
То есть сопротивляться искушению как святой антоний, отказываться от вкусной пищи, от встречи с женищнами и желанием купить красивый табурет? Некоторые философы, например, Делёз, наоборот всеми руками поддерживают желание-внешнего..
> "метафизической", фундаментальной) Само[сти]).
Это что-то вроде (подлинного) "субъекта" Эволы или Тела без органов? У меня в мыслях и даже в речи часто проскакивает идея самобытности/аутентичности, но я не до конца могу понять, что же это, мысль соскальзывает в биологическую редукцию и детерминизм
>>174923
Ты ответил не мне, думая, что ответил мне. Но у меня была прима слов с самого детства, сколько себя помню, и для меня отвязать слова или задвинуть их совершенно не представляется возможным, это вне рамок моего мышления, чувств и понимания
>>174933
> >Литералли гилик.
> Гилики — это важное понятие в гностицизме, обозначающее один из трех типов людей (два других — психики и пневматики).
записывает
> Гилики — это телесные люди, мало чем отличающиеся от животных, не способные понять мир вокруг себя и не стремящиеся к Гнозису
Эмм, а Ницше сам не был гилик? Все эти призывы вернуться к телу, не служить умозрительному, нелюбовь к Канту и Сократу, какая-то непосредственность и уважение к наивности благородных людей. Как раз гностическая философия полностью противоположна к имманентистской.
>>4938
Вот я о том же.
>>174940
> Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! О, как много добродетели улетало и прежде!
Это и есть гилицизм. Для познания нужна некая отрешёность от мира. Все "люди земли" - посредственности, далёкие от философии и т.д.
> Не только разум тысячелетий, но и безумие их проявляется в нас. Опасно быть наследником.
Значит безумие (Арто, Хлебников, Ван Гог, Батай) - это плохо?
> который выводит человечество из-под воли случайности
Ницше наоборот, по моей памяти, уважал случайность и называл её древнейшей аристократией. Уход от случайности - уход от хаоса, стабилизация, отказ от естественной среды, уравниловка (например, урбанизация и всеобщее образование). И тот же Делёз увожал случай\ность и говорил, что в том и заключается сила, чтобы эту случайность утверждать и пускать себе в прок/в силу.
> Если ты это не понял, то ты просто NPC ("гилик") и у меня для тебя не может быть никаких новостей просто потому что ты по определению тот, кто "так ничего и не понял". Ну то есть - макака.jpg)
Ну я это и не отрицаю, у меня задержка в развитии
> Als Zarathustra diese Worte gesagt hatte
а во, сразу всё понятно стало
>>4980
Что такое христианство? Ты лишь про Евангелие и оподражание образу жизни и ценностям Христа? Или туда входит "ветхий завет"?
>>5029
Усложнение мышления усиливает импульс активного или энергетического смятения — бреда — против реактивных сил, навязчиво стремящихся к разрешению или заключению. Восставая против основоположного дрейфа философского рассуждения, оно занимает сторону мысли, а не знания, убаюкивающих предписаний «воли к истине».
Философия — упырь, обитающий лишь на развалинах, и сокрушенное каркание наших гимнов в честь немочи — уже не за горами. Изнуренные течениями глубокого бессилия, текущими тихо и непреклонно под поверхностными возмущениями судорог и дрожи, проклятые, трясущиеся, со стесанными пытками когтистыми пальцами, погруженные в обломки, с мучительной медлительностью втягиваемые в пасть пламени и зигзагом накрученной на вертел тусклой погасшей тьмы в лихорадочно блестящих запавших глазах. Вечное возвращение — наша дезинсекция, и мы льнем к нему, как младенцы к груди матери.
Верование — не достояние, но тюрьма, и мы продолжаем полагаться на накопленное знание, даже отрицая его со всей интеллектуальной состоятельностью. Отказ принять заточение не заменяет дыру в стене. Только в путешествии к неизвестному существует реальный выход из убеждения.
> Философу нужно быть очень обеспеченным и иметь много свободного времени, чтобы реально и всерьез ознакомиться с историей философии. Делез имел много денег
Это так, для качественного познания требуются неебические стартовые условия (в т.ч. образование в детском возрасте. Я, например, про Сократа-Платона впервые узнал в 18 лет. О чём тут может речь идти?)
> Первые постепенно дошли до обращения в христианство, проекты вторых обернулись катастрофой и геноцидом.
Это не говорит в пользу религий.
> Философия, развернувшаяся на уровне поколений, либо приводит ко Христу, либо выращивает чудовищ.
Философия — упырь, обитающий лишь на развалинах, и сокрушенное каркание наших гимнов в честь немочи — уже не за горами. Изнуренные течениями глубокого бессилия, текущими тихо и непреклонно под поверхностными возмущениями судорог и дрожи, проклятые, трясущиеся, со стесанными пытками когтистыми пальцами, погруженные в обломки, с мучительной медлительностью втягиваемые в пасть пламени и зигзагом накрученной на вертел тусклой погасшей тьмы в лихорадочно блестящих запавших глазах.
 4,2 Мб, 3000x4103
4,2 Мб, 3000x4103>>174915
> Надо самому себе дать испытания, чтобы доказать, что ты предназначен для независимости и власти;
Не КАЖДЫЙ предназначен. И "испытания" тут идеализированы. Тогда все старики и старушки на улицах были бы предназначены для власти и были бы самыми сильными. Если ты с чем-то справился в один раз - ен значит, что сможешь справиться в соедующий. Напротив, чем старше человек, чем больше он пережил, тем больше он надут компиумом, который оправдывает все его ошибки и существование.
> Не цепляться за
Да, я даже это выписал себе. Но разве это не выглядит как нигилизм? Я бы больше ожидал чего-то такое от Чорана
> не становиться в целом жертвой какой-то отдельной стороны самих себя
О да, как люди, которые пультивируют в себе "травмы".
> Нужно уметь сохранять себя: величайшее испытание независимости.
С одной стороны - быть щедрым, не стяжательствовать, и расточать или иррационально тратить, сжигать (как у Батая или Ланда), то сохранять себя. А что такое "я"? Если это система копиума? Или это относится только к богатым душам?
>>174918
> т.е. надо уметь видеть, кто говорит, а не только то, что говорится
Сократ не прав потому что он урод
У меня знакомый коммунист, так же, когда я зачитываю цитату какого-нибудь Эволы, вопит "КТО ЭТО ПОНАПИСАЛ", чтобы перевести фокус на обсмеивание автора.
> Наши реальные переживания совсем не разговорчивы.
Опять же, часто встречал эту цитату, но не согласен из-за личного опыта. Есть разные люди, и говорить что все "держат в себе", а не выплёскивают (как дети) - ошибаться
>>174919
> Аналогично: нужно уметь противостоять соблазну
То есть сопротивляться искушению как святой антоний, отказываться от вкусной пищи, от встречи с женищнами и желанием купить красивый табурет? Некоторые философы, например, Делёз, наоборот всеми руками поддерживают желание-внешнего..
> "метафизической", фундаментальной) Само[сти]).
Это что-то вроде (подлинного) "субъекта" Эволы или Тела без органов? У меня в мыслях и даже в речи часто проскакивает идея самобытности/аутентичности, но я не до конца могу понять, что же это, мысль соскальзывает в биологическую редукцию и детерминизм
>>174923
Ты ответил не мне, думая, что ответил мне. Но у меня была прима слов с самого детства, сколько себя помню, и для меня отвязать слова или задвинуть их совершенно не представляется возможным, это вне рамок моего мышления, чувств и понимания
>>174933
> >Литералли гилик.
> Гилики — это важное понятие в гностицизме, обозначающее один из трех типов людей (два других — психики и пневматики).
записывает
> Гилики — это телесные люди, мало чем отличающиеся от животных, не способные понять мир вокруг себя и не стремящиеся к Гнозису
Эмм, а Ницше сам не был гилик? Все эти призывы вернуться к телу, не служить умозрительному, нелюбовь к Канту и Сократу, какая-то непосредственность и уважение к наивности благородных людей. Как раз гностическая философия полностью противоположна к имманентистской.
>>4938
Вот я о том же.
>>174940
> Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! О, как много добродетели улетало и прежде!
Это и есть гилицизм. Для познания нужна некая отрешёность от мира. Все "люди земли" - посредственности, далёкие от философии и т.д.
> Не только разум тысячелетий, но и безумие их проявляется в нас. Опасно быть наследником.
Значит безумие (Арто, Хлебников, Ван Гог, Батай) - это плохо?
> который выводит человечество из-под воли случайности
Ницше наоборот, по моей памяти, уважал случайность и называл её древнейшей аристократией. Уход от случайности - уход от хаоса, стабилизация, отказ от естественной среды, уравниловка (например, урбанизация и всеобщее образование). И тот же Делёз увожал случай\ность и говорил, что в том и заключается сила, чтобы эту случайность утверждать и пускать себе в прок/в силу.
> Если ты это не понял, то ты просто NPC ("гилик") и у меня для тебя не может быть никаких новостей просто потому что ты по определению тот, кто "так ничего и не понял". Ну то есть - макака.jpg)
Ну я это и не отрицаю, у меня задержка в развитии
> Als Zarathustra diese Worte gesagt hatte
а во, сразу всё понятно стало
>>4980
Что такое христианство? Ты лишь про Евангелие и оподражание образу жизни и ценностям Христа? Или туда входит "ветхий завет"?
>>5029
Усложнение мышления усиливает импульс активного или энергетического смятения — бреда — против реактивных сил, навязчиво стремящихся к разрешению или заключению. Восставая против основоположного дрейфа философского рассуждения, оно занимает сторону мысли, а не знания, убаюкивающих предписаний «воли к истине».
Философия — упырь, обитающий лишь на развалинах, и сокрушенное каркание наших гимнов в честь немочи — уже не за горами. Изнуренные течениями глубокого бессилия, текущими тихо и непреклонно под поверхностными возмущениями судорог и дрожи, проклятые, трясущиеся, со стесанными пытками когтистыми пальцами, погруженные в обломки, с мучительной медлительностью втягиваемые в пасть пламени и зигзагом накрученной на вертел тусклой погасшей тьмы в лихорадочно блестящих запавших глазах. Вечное возвращение — наша дезинсекция, и мы льнем к нему, как младенцы к груди матери.
Верование — не достояние, но тюрьма, и мы продолжаем полагаться на накопленное знание, даже отрицая его со всей интеллектуальной состоятельностью. Отказ принять заточение не заменяет дыру в стене. Только в путешествии к неизвестному существует реальный выход из убеждения.
> Философу нужно быть очень обеспеченным и иметь много свободного времени, чтобы реально и всерьез ознакомиться с историей философии. Делез имел много денег
Это так, для качественного познания требуются неебические стартовые условия (в т.ч. образование в детском возрасте. Я, например, про Сократа-Платона впервые узнал в 18 лет. О чём тут может речь идти?)
> Первые постепенно дошли до обращения в христианство, проекты вторых обернулись катастрофой и геноцидом.
Это не говорит в пользу религий.
> Философия, развернувшаяся на уровне поколений, либо приводит ко Христу, либо выращивает чудовищ.
Философия — упырь, обитающий лишь на развалинах, и сокрушенное каркание наших гимнов в честь немочи — уже не за горами. Изнуренные течениями глубокого бессилия, текущими тихо и непреклонно под поверхностными возмущениями судорог и дрожи, проклятые, трясущиеся, со стесанными пытками когтистыми пальцами, погруженные в обломки, с мучительной медлительностью втягиваемые в пасть пламени и зигзагом накрученной на вертел тусклой погасшей тьмы в лихорадочно блестящих запавших глазах.
>ЖОПА ЕСТЬ, А СЛОВА НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=4q8nY7JEev0
>человеческое изобретение
>прав нет
Человек вне природы чтоле?
>часть природы
Ну ок. Просто не соблюсти законы физики, природные - скорее всего невозможно. А "чебуреческие права" - спокойно игнорятся.
Например, Большой Адронный Коллайдер работает так: три года накапливается СТАТИСТИКА, затем еще три года СТАТИСТИКА скрупулезно изучается.
И это не единственный пример, "незыблемые" законы физики носят статистический характер.
>права" - спокойно игнорятся.
Это до Страшного Суда спокойно.
Да и то, далеко не все правонарушители, даже заядлые, чувствуют себя спокойно.
Экономисты Яакко Мериляйнен и Матти Митрунен проанализировали последствия образовательного эксперимента, проведённого в 1973–1975 годах. В одном из муниципалитетов страны две группы пятиклассников изучали историю и социальные науки по программе, включающей элементы марксистско-ленинской пропаганды. Эксперимент был направлен на формирование у школьников «функционирующего социалистического мировоззрения».
С помощью аппарата сравнительной социологии и данных государственных регистров авторы установили: к зрелому возрасту участники эксперимента зарабатывали в среднем на 10% меньше, чем учащиеся из другой выборки.
Разрыв частично связан с сокращением трудового участия и более частым выбором менее доходных, но социально ориентированных профессий. Различий в усреднённом уровне образования или когнитивных способностях между представителями исследуемых групп обнаружено не было. Это указывает на изменение ценностей и предпочтений как вероятную причину.
У участников эксперимента зафиксированы долговременные сдвиги в сторону левых политических взглядов. В соответствии с выводом исследователей, идеологическое воздействие на детей может иметь устойчивые экономические последствия.
Да все в школе читали Ницше. Просто кто-то развивается дальше, а кто-то так и остается школьником и малолетним дебилом на всю жизнь. Не было бы Ницше, была бы какая-то другая книжка, был бы Гарри Поттер или какая-то другая срань.
Почему любовь к Ницше приводит к такому?
Любитель Ницше либо угрюмый пессимист, который ноет, либо подросток-студент с радикальными взглядами как у Дугина и Лимонова.
Малдебы склонны к радикализму. Ницше тут просто симптом, но не причина.
Благо, бытие и "Бог" (нет Бога, есть только боги, и они - философствуют) - это одно и то же. ("Сверхчеловек", - это развитие "святости", вплоть до её само-отмены в форму, Ничто исключающее как целеполагание. (Это весь базис для критики из "Анти-Христ": "сверхчеловек" это победитель Бога Ничто, антинигилист (см. завершение второй ) par excellence...))
Но в какой-то момент, в более сильное время, чем это гнилое, сомневающееся в себе настоящее, он должен прийти к нам, искупительный человек великой любви и презрения, творческий дух, чья настойчивая сила снова и снова гонит его от всего далекого и потустороннего, чье одиночество неправильно понимается людьми, как если бы это было бегство от реальности - в то время как это всего лишь его погружение, погребение, углубление в реальность, чтобы однажды, когда он вернется к свету, он мог принести домой искупление этой реальности: ее искупление от проклятия, которое наложил на нее предыдущий идеал. Этот человек будущего, который освободит нас от прежнего идеала, а также от того, что должно было из него вырасти, от великого отвращения, от воли к небытию, от нигилизма, от этого колокола, звонящего в полдень, и от великого решения, который снова освободит волю, который даст земле ее цель, а человечеству ее надежду, этот антихрист и антинигилист, этот победитель Бога и небытия, — он должен прийти однажды...
Разум, логика, знание, познание, сознание, чувства, "Я" (эго) указывают и взаимодействуют с тем же самым объектом, с которым взаимодействуют и на который указывают вера, интуиция, инстинкты, откровение, бессознательное, интеллект (мышление), "Самость" (тело): "плохое" и "хорошее" - это одно и то же. И если исходя из рассуждения не происходит возвращения в исходную точку суждения и мысли, - то это практически контраргумент против самого суждения, против его философской убедительности (в том смысле, что такое утверждение не ориентирует на бытие, на тело, на "Самость", а значит, как "бог", как цель, - служит развоплощению и деградации, decadence) будто бы суждение не противоречит своим же собственным тезисам (и даже если... разве мысль может исходить из Ничто? как это возможно? никоим образом (это просто противоречит понятию "ничто", и только доказывает, что в случае таковой возможности это "ничто" не является тем, что под "ничто" действительно понимается и в жизни, и в философии)). [Каким бы ни был мореплаватель "одиночным", он обречён либо сгинуть (и тем самым быть вычеркнутым из истории и жизни, абсолютно и навсегда, - но разве это возможно? ведь, как было сказано, "ничто" не "ничтит" ("ничтит" только бытие и ничего кроме)), либо вернуться в родную гавань (Za-IV, Mittags). Каждое верное, философски, суждение всегда исходит из бытия и к нему возвращается, оно всегда замкнуто и образует то самое "кольцо" как структуру жизни ("желания"). Т.е.: "кольцо колец", "кольцо возвращения" (даже для всего неживого (что уже известно миру как BwO и "желающие машины")).]
Благо, бытие и "Бог" (нет Бога, есть только боги, и они - философствуют) - это одно и то же. ("Сверхчеловек", - это развитие "святости", вплоть до её само-отмены в форму, Ничто исключающее как целеполагание. (Это весь базис для критики из "Анти-Христ": "сверхчеловек" это победитель Бога Ничто, антинигилист (см. завершение второй ) par excellence...))
Но в какой-то момент, в более сильное время, чем это гнилое, сомневающееся в себе настоящее, он должен прийти к нам, искупительный человек великой любви и презрения, творческий дух, чья настойчивая сила снова и снова гонит его от всего далекого и потустороннего, чье одиночество неправильно понимается людьми, как если бы это было бегство от реальности - в то время как это всего лишь его погружение, погребение, углубление в реальность, чтобы однажды, когда он вернется к свету, он мог принести домой искупление этой реальности: ее искупление от проклятия, которое наложил на нее предыдущий идеал. Этот человек будущего, который освободит нас от прежнего идеала, а также от того, что должно было из него вырасти, от великого отвращения, от воли к небытию, от нигилизма, от этого колокола, звонящего в полдень, и от великого решения, который снова освободит волю, который даст земле ее цель, а человечеству ее надежду, этот антихрист и антинигилист, этот победитель Бога и небытия, — он должен прийти однажды...
Разум, логика, знание, познание, сознание, чувства, "Я" (эго) указывают и взаимодействуют с тем же самым объектом, с которым взаимодействуют и на который указывают вера, интуиция, инстинкты, откровение, бессознательное, интеллект (мышление), "Самость" (тело): "плохое" и "хорошее" - это одно и то же. И если исходя из рассуждения не происходит возвращения в исходную точку суждения и мысли, - то это практически контраргумент против самого суждения, против его философской убедительности (в том смысле, что такое утверждение не ориентирует на бытие, на тело, на "Самость", а значит, как "бог", как цель, - служит развоплощению и деградации, decadence) будто бы суждение не противоречит своим же собственным тезисам (и даже если... разве мысль может исходить из Ничто? как это возможно? никоим образом (это просто противоречит понятию "ничто", и только доказывает, что в случае таковой возможности это "ничто" не является тем, что под "ничто" действительно понимается и в жизни, и в философии)). [Каким бы ни был мореплаватель "одиночным", он обречён либо сгинуть (и тем самым быть вычеркнутым из истории и жизни, абсолютно и навсегда, - но разве это возможно? ведь, как было сказано, "ничто" не "ничтит" ("ничтит" только бытие и ничего кроме)), либо вернуться в родную гавань (Za-IV, Mittags). Каждое верное, философски, суждение всегда исходит из бытия и к нему возвращается, оно всегда замкнуто и образует то самое "кольцо" как структуру жизни ("желания"). Т.е.: "кольцо колец", "кольцо возвращения" (даже для всего неживого (что уже известно миру как BwO и "желающие машины")).]
>>5109
>см. завершение второй
см. завершение второй части второго рассмотрения "К генеалогии морали"
>Разум, логика, знание, познание, сознание, интеллект (мышление), "Я" (эго)
>Вера, интуиция, инстинкты, откровение, бессознательное, чувства, "Само[сть]" (тело)
поправил (т.е. чувства и мышление - это одно и то же (один и тот же самый объект в абсолютнейшем смысле этого высказывания))
>победитель Бога Ничто
>победитель Бога и Ничто
в том смысле, в котором Бог понимается как бог Ничто и Небытия (в этом антихристианстве рессентимент отсутствует, есть только всеприятие бытия ("Да" и "Аминь"), и ничего кроме (что и есть необходимое основания для истинности высказываний, - оно иным просто быть не может))
>>5109
>"хорошее" неживое - неживое желающее вечного возвращения
>что уже известно миру как BwO и "желающие машины"
И ещё до этого образовало Imperium Romanum и стоицизм (который был очень Делёзу интересен). (А далее христианство вобрало в себя элементы стоицизма и его очень сильно видоизменило, практически до неузнаваемости (но не стоит забывать и о JGB-9, стоицизма в частности и философии в принципе - корректиковке (позднее Ницше признаёт, что и его философия, - это "духовная воля к власти", т.е. эта критика не является отменой стоиков)).)
Умный в гору не пойдет...
Пруфы - это что?
Нечто такое, что вписывается в твои квадратно-гнездовые представления о физике (в которые и сама-то физика не влазит)?
Давай про капитал и производственные силы затри. Надо расти и смотреть шире.
 80 Кб, 200x200
80 Кб, 200x200Так воспользуйся своим же советом. И не льсти себе, это весьма неприглядно. Хотя не скрою, мне приятно видеть как ты по-прежнему пытаешься манипулировать, бесцельно и бессмысленно.
>в дискуссию
Наверное, это очередная не слишком удачная "шутка". К моему неприскорбию никаких признаков дискуссии у тебя нет. Но ты можешь попробовать, вдруг что-то да получится.
 2,5 Мб, 1024x1536
2,5 Мб, 1024x1536Нечего заниматься пропагандой уринотерапии
Не читал в школе Ницше, читал китайских легистов
Религий десятки тысяч. Суд есть только в одной. С чего ты взял что именно она истинная? Толстишь тупостью, притворяясь дурачком из /ре?
Хотя да, про поля не обязательно, может термин Вселенная сложнее. Про стандартную картину хрен его.
>>5127
>>5128
>Вопрос к каждому здесь.
Не хочется быть несколько банальным, но некой исчерпывающей философии нет. Ну или начните с того, что есть бытие и есть ли у него какой-то исток, нечто вечное. Далее расписываете про бытие во всех его гранях и аспектах со своего угла зрения в полноте его видения, пресловутую картину мира.
Касаемо религии... Все религии обращены к тому, что именуется мистическим, вечным и абсолютным. Вопрос лишь как это понимать и как относиться. Судя по количеству вероисповеданий, ветвлений и прочих фрагментаций, персональных религиозно-философских установок (в т.ч. отрицания, безразличия или "бессмысленности" этих установок) - и здесь тоже не всё так однозначно.
Или же сразу назовите единственно верную религию и философию соответственно. Чтобы не блуждать почём зря "в трёх соснах".
Почему тогда Платон сжигал книги Демокрита и призывал приговаривать несогласных со своей точкой зрения к смертной казни?
Платон не настоящий философ.
>Вопрос к каждому здесь.
Схуяли ты взял что я с чего-то взял что "философия" одна "истинная". Я и слов таких не знаю. Может объяснишь, что имел в виду?
«Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодезя» — цитата из книги «Притчи Соломона», глава 5, стих 15 (Синодальный перевод)
>>5109
> от великого отвращения, от воли к небытию, от нигилизма
Так сейчас - считай - люди спасены, в мире культа позитиффчика и успеха, где ты не смеешь сказать что-либо о современности, сделать негативное суждение в отношении жизни, рекламы, т.н. любви, дружбы, толпы, крысиных бегов, эгалитаризма, преодоления, веры в себя. Разве это - сверхчеловечески? Как раз люди современные давно отринули потустороннее (и о нём утверлждают рекие эстеты, рлэты, платонисты). Люди действуют без '"совести", ориентируясь лишь на "здесь и сейчас" и (сиюминутную) выгоду, никто (за тем же редким исключением) давно уже не руководствуется "небесным", люди дают в жопу за грамм и подкидывают грамм за премию, ебать, где тут мораль? И есть ли смысл бороться с людьми "небесными", когда есть нечто более ужасающее (чему они себя пытаются противопоставить)?
Как раз реальность - "искуплена" как никогда, и совремнный мир это противоположность гностическому яйцу. Попробуй скажи что-то про реальность в духе гностиков, и ты будешь забыт, предан остракизму, и обсмеян как weirdo.
Я не знаю, конечно, может у вас профессорские круга или духовно-просвященная семья, создавшая пузырь
> он обречён либо сгинуть (и тем самым быть вычеркнутым из истории и жизни, абсолютно и навсегда, - но разве это возможно?
Возможно, у нас в роду известно только 10 коленей. Каких-то пахарей будто никогда и не существовало. Тогда как не сгинут всякие тиражируемые красивые люди у которых миллиард подписчиков.
> либо вернуться в родную гавань
Это какой-то круговорот душ (или либидинальный материализм)
>>5110
> см. завершение второй части второго рассмотрения "К генеалогии морали"
> ря естественность харашо природа харашо чувства харашо
Созидание, умозрительное, дисциплина, память - плохо.
> противник христианства
Среди молодежи со всего мира не-противников ты отыщешь процентов 20. Должно быть, это будут самые глубокие и хорошие люди. Но почему-то они кажется такими плоскими, в то время как к нигилистичным измышлениям приходит только тот, кто уже поднялся на 3 головы.
>>5111
> духовная воля к власти
Духовная ВВ - если это ВВ от рессентиментного червя, обделённым жизнью - это плоха. Она для кого нужно ВВ. А ты заткнёшься и будешь гнаться за морковкой.
>>5112
> Итого, крамольная (для Ницше) мысль: аристократ и раб - это одно и то же.
Одно и то же, разделённое случаем, так?
>>5113
> Для эмоционально/чувственно: ничто ~ смерть.
Батай врывается в тред Ну так это уже случается, современные обыватели так и считают и бегут от всего, что может пошатнуть их ценности и пресуппозиции.
>>5109
> от великого отвращения, от воли к небытию, от нигилизма
Так сейчас - считай - люди спасены, в мире культа позитиффчика и успеха, где ты не смеешь сказать что-либо о современности, сделать негативное суждение в отношении жизни, рекламы, т.н. любви, дружбы, толпы, крысиных бегов, эгалитаризма, преодоления, веры в себя. Разве это - сверхчеловечески? Как раз люди современные давно отринули потустороннее (и о нём утверлждают рекие эстеты, рлэты, платонисты). Люди действуют без '"совести", ориентируясь лишь на "здесь и сейчас" и (сиюминутную) выгоду, никто (за тем же редким исключением) давно уже не руководствуется "небесным", люди дают в жопу за грамм и подкидывают грамм за премию, ебать, где тут мораль? И есть ли смысл бороться с людьми "небесными", когда есть нечто более ужасающее (чему они себя пытаются противопоставить)?
Как раз реальность - "искуплена" как никогда, и совремнный мир это противоположность гностическому яйцу. Попробуй скажи что-то про реальность в духе гностиков, и ты будешь забыт, предан остракизму, и обсмеян как weirdo.
Я не знаю, конечно, может у вас профессорские круга или духовно-просвященная семья, создавшая пузырь
> он обречён либо сгинуть (и тем самым быть вычеркнутым из истории и жизни, абсолютно и навсегда, - но разве это возможно?
Возможно, у нас в роду известно только 10 коленей. Каких-то пахарей будто никогда и не существовало. Тогда как не сгинут всякие тиражируемые красивые люди у которых миллиард подписчиков.
> либо вернуться в родную гавань
Это какой-то круговорот душ (или либидинальный материализм)
>>5110
> см. завершение второй части второго рассмотрения "К генеалогии морали"
> ря естественность харашо природа харашо чувства харашо
Созидание, умозрительное, дисциплина, память - плохо.
> противник христианства
Среди молодежи со всего мира не-противников ты отыщешь процентов 20. Должно быть, это будут самые глубокие и хорошие люди. Но почему-то они кажется такими плоскими, в то время как к нигилистичным измышлениям приходит только тот, кто уже поднялся на 3 головы.
>>5111
> духовная воля к власти
Духовная ВВ - если это ВВ от рессентиментного червя, обделённым жизнью - это плоха. Она для кого нужно ВВ. А ты заткнёшься и будешь гнаться за морковкой.
>>5112
> Итого, крамольная (для Ницше) мысль: аристократ и раб - это одно и то же.
Одно и то же, разделённое случаем, так?
>>5113
> Для эмоционально/чувственно: ничто ~ смерть.
Батай врывается в тред Ну так это уже случается, современные обыватели так и считают и бегут от всего, что может пошатнуть их ценности и пресуппозиции.
>Но почему-то они кажется такими плоскими, в то время как к нигилистичным измышлениям приходит только тот, кто уже поднялся на 3 головы
=)
Зачем Платон это делал?
 243 Кб, 602x748
243 Кб, 602x748>в мире культа позитиффчика и успеха, где ты не смеешь сказать что-либо о современности, сделать негативное суждение в отношении жизни, рекламы, т.н. любви, дружбы, толпы, крысиных бегов, эгалитаризма, преодоления, веры в себя
Чет ты преувеличил проблему. Кто тебе запрещает ныть и обесценивать все, что тебе не нравится? Никто. Половина интернета - это как раз такие двачерашки- псевдоинтеллектуалы с криками ВРЕТИИ и НИНУЖНОО.
>Похуй.
Оценочное суждение твоё слишком избито, тебе придётся предъявить его более развёрнуто. Ежели ты претендуешь на что-то большее, чем просто мнение. Наводящие вопросы: что не шизокал и почему?




















